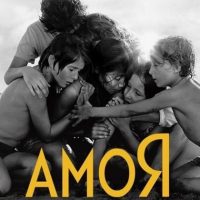Осмысливая путь Александра Сокурова, оставшегося в царственном одиночестве на Олимпе живых классиков российского кино после ухода Алексея Германа-старшего и Киры Муратовой, нужно ретроспективно взглянуть вглубь его фильмографии, пестрящей безусловными шедеврами и ответить на главный вопрос, терзающий зрителя: «Какое место занимает в универсуме Сокурова смерть?» В этой статье разбираются все полнометражные художественные фильмы этого постановщика, за исключением ленты «Тихие страницы», которая в Сети есть лишь в таком ужасном качестве телезаписи, что мои близорукие глаза так и не смогли справится с дискомфортом, в результате чего я бросил ее просмотр.
Прежде всего пристального внимания заслуживают метаморфозы творчества Сокурова как читателя, с равным успехом обращающегося к прозе Флобера и Платонова, Стругацких и Бернарда Шоу, русской классике XIX века и «Фаусту» Гете, но всегда преобразующего литературный материал в уникальный стилевой сплав, превращающий интерпретацию чужого текста в инструмент познания постановщиком самого себя. Юрий Арабов утверждает, что «Сокуров вместо сценария предпочитает “хорошую прозу”, из которой бы рождался импульс к творчеству, вне зависимости от того, насколько прописана в нем драматургическая ситуация».
«Одинокий голос человека» – скандально известный дебют Сокурова в полнометражном кино, спасенный от уничтожения в эпоху «застоя» усилиями энтузиастов. Экранизируя рассказ Платонова «Река Потудань», режиссер создает целую художественную вселенную, законы существования которой зрителю невероятно трудно постичь, настолько увиденное не похоже на что-либо из истории кино. Эстетический универсум картины полностью самодостаточен, целостен, завершен и как будто не нуждается в публике: столь мучительно долгими кажутся общие планы, с усилием порой можно различить силуэты, погруженные во мрак, последовательность эпизодов и продолжительность каждого из них кажутся никак структурно не мотивированными, а композиция рыхлой.
Однако, все эти элементы вкупе с особым существованием исполнителей в кадре образуют новый киноязык, аудиовизуальную грамматику со своим синтаксисом. Сокуров добивается от актеров почти брессоновской нейтральности, пытаясь запечатлеть моменты наибольшей естественности, выразительности их существования: дуэт Градова и Горячевой наэлектризован драматизмом, хотя исполнители говорят мало, их поведение пластически сдержано, герои кажутся глубокими интровертами. Эта погруженность персонажей в себя, многочисленные съемки природы вкупе с деликатным, ненавязчивым использованием классической музыки создает в картине внутреннее измерение, глубину, которая не подкреплена ни драматургически, ни монтажно, что делает ее еще более загадочной. Сокуров выстраивает изображение по законам обратной перспективы, чтобы визуализировать духовную область.
«Вслед за Годаром и Кокто Сокуров мог бы повторить, что кино – единственное искусство, показывающее работу смерти, чья символика, безусловно, наиболее отчетливо структурирована во всех его работах. Вытянутое, бесконечно длящееся время фильма вкупе с его, фильма, реальной протяженностью <…> воплощает эту работу поэтапно, пофазно, как механический процесс», – пишет Сергей Добротворский.
Внешняя бессодержательность, отсутствие ясного нарратива не мешает зрителю почувствовать глобальность режиссерских задач, виртуозного обращения с пространством и временем: необъятные природные ландшафты, медленный, медитативный ритм призваны выразить парадоксальность мышления Платонова, его косноязычие, стремление к вселенским обобщениям. В сравнении с голливудским фильмом Кончаловского «Любовники Марии», приносящей в жертву увлекательности и эпатажу платоновское мировосприятие, лента Сокурова идет значительно дальше, ища кинематографический эквивалент литературного стиля этого писателя и справляется с задачей блестяще.
«В фильме присутствует какая-то звенящая тишина, или, по выражению Августина, немотствующий крик. Монотонный заунывный стон вынесен за скобки, ибо нет нужды его воспроизводить, к нему привыкли так же, как привыкают к земному тяготению обитатели Земли. Но на уровне зримости стон присутствует с очевидностью, подобно запаху разложения и другим сенсорным проявлениям мерзости запустения», – пишет Александр Секацкий.
Конечно, история любви, рассказанная в фильме, способна поразить зрителя почти антониониевской скованностью, сдержанностью, переходящей в замкнутость и анемию, но она сознательно отодвинута на второй план задачами формального характера. В первый раз сотрудничая с Юрием Арабовым, впоследствии своим постоянным сценаристом на протяжении многих лет, Сокуров обрел коллегу и альтер-эго, близкого ему мировоззренчески и по художественным предпочтениям. Сокуров как художник абсолютно самодостаточен, почти не испытал чьего-либо режиссерского влияния, его популярное сравнение с Тарковским неуместно и необоснованно: если у автора «Иванова детства» характеры персонажей раскрываются посредством в равной мере и диалогов, и изобразительного ряда, то постановщик «Одинокого голоса человека» предпочитает скорее брессоновский тип работы, вписывая исполнителей в ландшафт, рассматривая их как моделей, а не как актеров.
В целом, «Одинокий голос человека» главной своей целью ставит выработку уникального киноязыка с нуля, не имеющего ориентиров в истории кино, тем не менее, именно такой подход позволяет найти кинематографический аналог столь же неповторимого платоновского стиля, неотъемлемого от мировоззрения писателя. «Сокуров попадает в исторический мир, словно минуя быт. <…> Режиссер обращается, как бы к подсознанию истории, сдирая, как кожу, внешние ее покровы. Он словно бы не движется от частного к общему, а сразу берет в ладони трепетную, жгущуюся магму исторического бытия», – считает Олег Ковалов. Экранизируя Платонова, Сокуров постигал свой собственный внутренний мир, учился говорить на своем особом языке, так интертекстуальный диалог обернулся самопознанием одного из его участников.
Картина «Скорбное бесчувствие» вполне концептуально ясна, даже прозрачна, но нарочитое стремление Сокурова и Арабова отмежеваться от официального советского искусства, пропитанного идеологическим маразмом, обернулось большими эстетическими проблемами. Конечно, трудно верно судить об этой экранизации пьесы Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца», не зная материала (когда-то пытался ее читать, но так и не смог – Шоу остался для меня автором одного лишь замечательного «Пигмалиона»), но рискну предположить, что, как и большинство иных адаптаций Арабовым художественной литературы, это весьма вольное прочтение текста Шоу.
Режиссер и сценарист исходят из того, что Шоу в этой пьесе переосмысливал чеховские мотивы (прежде всего «Чайку» и «Вишневый сад»), которые в атмосфере катаклизмов ХХ века приобретают откровенно абсурдный характер. Для большинства исполнителей «Скорбного бесчувствия» их роли стали настоящим подвигом, ибо Сокуров потребовал от них алогизма интонаций, преувеличенной изломанной пластики и полного игнорирования принципов психологического искусства. По этой причине, трудно отделаться от ощущения, что перед нами – Беккет, а не Шоу, столь эксцентрично поведение большинства героев.
Однако, здесь напрочь отсутствует беккетовский трагизм экзистенциального удела человека в годы потрясений: включение военной хроники в абсурдное действие с ослабленной драматургией не нарушает буффонадного эффекта, а в какой-то момент им вообще заражается (в эпизоде, когда герои хроники тащат провизию под современную нам, а не им, танцевальную музыку). К тому же воспринимать дом не просто, как место действия (вернее его отсутствия), но как ковчег, разрезающий волны исторического моря, было бы в корне неверно.
Дом в фильме Сокурова – это декадентски салонное место, в котором падение нравов, развращенность, ложь, изворотливость героев символизируют ситуацию накануне (или в разгар) больших потрясений. Как впоследствии в «Гарпастуме» Германа-младшего, люди здесь живут так, будто войны нет, обуреваемые своими низменными, мелкими страстишками. О том, насколько нелепы, глупы и отвратительны их реплики, поведение, характеры, излишне и говорить, подлинно – это драма без героя, без конфликтов, без нерва. Это сделано Шоу и его адаптаторами намеренно: быть может Сокуров и Арабов обратились к этой пьесе и так ее экранизировали, чтобы выразить предчувствие коллапса советской цивилизации, ее декаданс, схожий с культурным распадом Запада в начале ХХ века.
Поскольку сделать это напрямую они не могли, боясь цензуры, то избрали окольный путь экранизации пьесы о событиях Первой Мировой, да еще и за рубежом, однако, это не помешало запрещению фильма, как и «Агонии» Климова (фильма, во многом схожего со «Скорбным бесчувствием»), в которой цензура разглядела параллели с «застоем». Впрочем, нетерпимость цензурных органов к раннему Сокурову объясняется скорее эстетической неприемлемостью его фильмов, чем содержанием. Если в «Одиноком голосе человека», многих своих поздних лентах («тетралогии власти», например) Сокуров идет навстречу публике, приспосабливая свои художественные искания к восприятию умного, но все же воспитанного на киноклассике, зрителя, то в «Скорбном бесчувствии» режиссер столь обеспокоен расширением границ киноязыка и формальным новаторством, что его послание становится практически нечитаемым.
Во многом вину за провал «Скорбного бесчувствия» (не прокатный, конечно, а художественный, ибо фильм смотрели и смотрят, даже «Культура» показывала его несколько раз) можно возложить и на сценариста, для которого в молодости (сейчас уже не так, о чем говорят, например, «Юрьев день» или «Монах и бес») было важно демонстративно игнорировать законы сюжетосложения, классической композиции и внятной драматургии. В то же время совместная с Сокуровым адаптация «трудноязыкого» Платонова (который гораздо сложнее Шоу и по форме, и по содержанию) удалась полностью. Почему же это произошло?
Дело в том, что в Платонове они нашли эстетическую эквивалентность тому киностилю, который впервые вместе изобрели («Одинокий голос человека» был первой работой в кино и для Арабова, и для Сокурова), Шоу же при всей понятности и актуальности мессиджа его «Дома…» оказался им художественно чужд. В заключение, скажу несколько слов о танатографии в «Скорбном бесчувствии». Это едва ли не единственный сильный момент в картине: демонстрация смерти и манипуляций с трупом, который оказывается вовсе и не труп, для Сокурова – начало исследований феномена смерти в его последующих работах. В мире «Скорбного бесчувствия» смерть может явится только в буффонадном виде, как карнавал перевоплощений и масок, без всякого экзистенциального трагизма, что неудивительно, учитывая, что его герои-марионетки лишены всего человеческого и выглядят пародиями на людей.
«Скорбное бесчувствие» удалось, не как цельное художественное высказывание, но лишь как стилевой эксперимент, полностью игнорирующий зрителя, потому эта картина останется в истории советского кино, как мужественное плавание всей съемочной группы против течения официозной идеологии, но не более того. Ведь Тарковский тоже всегда шел наперекор советскому официозу, но никогда не игнорировал зрителя, Сокуров же здесь вообразил себя создателем новых киномиров, которым он, конечно, был и остался до сих пор, к сожалению, в данном случае совершенно забыв о том, что его будут смотреть не только кинокритики.
Столь же сложные отношения сложились у меня с лентой «Дни затмения», которую я впервые видел еще подростком по «Культуре» в период невыносимой жары, благодаря чему хорошо почувствовал ее атмосферу, проникся ей и потому был восхищен, хотя почти ничего не понял и не запомнил. Смотря эту картину сейчас, уже сложившимся человеком, могу сказать, что «Дни затмения» – это, конечно, тот случай, когда кино надо смотреть внимательно, ни на что не отвлекаясь, потому что третий полнометражный художественный фильм Сокурова – образец стопроцентно серьезного искусства, полностью игнорирующего постмодернистские тренды 80-х.
Это настоящее авторское кино, в котором постановщик берет на себя колоссальную ответственность чему-то научить зрителя, сверхзадача «Дней затмения» непосильна сейчас почти никому из современных режиссеров, даже самому Сокурову, видимо (судя по эстетическому провалу «Франкофонии»). Андрей Плахов, вспоминая в одном своем эссе о впечатлении, произведенном этим фильмом на критиков, утверждает, что именно с него начались аналогии художественных путей Сокурова и Тарковского прежде всего из-за мессианского смысла «Дней затмения». Действительно, эта лента – один из ярчайших, наряду с «Покаянием» Абуладзе, образцов богоискательства в перестроечном кино и вместе с тем нравственный протест против удельного веса зла, ставшего накануне краха СССР невыносимым.
Взяв за основу и существенно переработав повесть Стругацких при их непосредственном участии, Арабов и Сокуров создают притчу о современном моральном климате (не только в России, но и в мире, как оказалось), который можно определить, как предапокалиптический, как ожидание скорых необратимых катастроф, требующих от человечества пересмотреть свое прошлое и покаяться в своих преступлениях. Нравственный пафос «перестройки» в «Днях затмения» не столь прямолинеен, как в «Покаянии», он спрятан за слоем метафор и символов, но они читаемы, воспринимаемы, не герметичны. В сравнении с концептуально мутным «Скорбным бесчувствием» – это несомненный шаг вперед и для режиссера, и для сценариста.
Ослабление сюжетной напряженности, упор на атмосферу запустения и разложения, достигаемую визуальными и акустическими средствами: диссонансная, некомфортная музыка Шнитке, пронизывающая большую часть документальных панорам, оставляет стойкое впечатление духовного неблагополучия; парение камеры над землей в первых кадрах вызывает прямую аналогию с началом «Андрея Рублева», но если у Тарковского это было выражением возможностей человеческого духа, то у Сокурова камера приземляется прямиком в грязь и распад, намекая на то, что «Дни затмения» – это прежде всего кино о бездуховности советского проекта.
В картине Сокурова есть несколько опорных точек, по которым можно безошибочно интерпретировать ее как диалектический поиск духовности в мире тотального материализма. Одной из них является персонаж Заманского Снеговой, бродящий по пустому храму в пасхальные дни и твердящий: «Не понимаю», его последующая безрадостная участь – намек на бесперспективность будущего советской империи, давно уже не верящей ни во что и заблудившейся в идеологической лжи. Другая опора – сцены Малянова с мальчиком, в которых звучат католические песнопения: совершенное, атлетическое тело Ананишнова, исполнителя роли Малянова, тщетно сопротивляется окружающему распаду и вот оно находит опору в ребенке, о котором хочет заботиться.
В давнем интервью Познеру Сокуров сказал, что наибольшее для него значение из всего написанного о нем имеют статьи Михаила Ямпольского, и никто не сделал для понимания им самим его фильмов, как этот человек. Скажу честно, что и для меня книга Ямпольского «Язык-тело-случай», в которой разбираются главным образом фильмы Сокурова (почти все вплоть до «Русского ковчега»), оказалась важнейшей в понимании кинематографа этого режиссера. Ямпольский исходит из того, что в универсуме Сокурова центральным событием является смерть тела, это кино, ищущее, алчущее веры (в отличие от вселенной Тарковского, ее обретшей), задыхающееся в окружающей материальности и ее смертности.
Жизнь тел, феноменологичность сокуровского кинематографа, по Ямпольскому, маниакально сконцентрированного на телесности, закономерно ведет к созерцанию и размышлению об умирании. На это указывают со всей очевидностью и карнавальные сцены неудавшегося вскрытия тела в «Скорбном бесчувствии», и долгий, клаустрофобный вынос трупа в «Днях затмения». В мире «Скорбного бесчувствия» смерть была невозможна, потому она являлась как бы понарошку, не всерьез, в «Днях затмения» смерть трагична – это закономерный исход для ни во что не верящего тела.
В сокуровском мире, особенно в его «перестроечных» фильмах (вплоть до «Камня»), мучительный поиск веры в трансцендентное, нежелание обездушенных тел, приученных десятилетиями Советской власти к атеистической бескрылости, копаться в грязи материального, к тому же стремительно распадающегося мира, к чему эта власть и призывает, это нежелание оборачивается торжеством иррационального, таинственного, мистического. Нарастание иррационального в позднесоветском мире привело, как известно, к пролиферации сект и самых диких суеверий, разгулу экстрасенсов и гипнотизеров (об этом же говорил и Лопушанский в «Посетителе музея» – фильме одного духовного порядка с «Днями затмения»).
Магма мистического в «Днях затмения» выражается порой неуловимо, через намеки, нюансы, поначалу неочевидные детали (как например, листопад в доме друга Малянова): Сокуров и Арабов будто подводят зрителя к выводу о том, что советское мировоззрение не может уже справиться с таким валом иррационального, которое ее в итоге и похоронит. Приз Католической ассоциации в Берлине лишь закрепил гигантские художественные и концептуальные достижения «Дней затмения», вместе с тем он показал, что на тот момент Сокуров и Арабов делали подлинно христианское искусство, сопротивляющееся не только постмодернистскому пересмешничеству, но и атеистической советской пропаганде.
«Дни затмения» – важнейшая страница в «перестроечном» искусстве СССР, маркирующая его самые сокровенные темы: богоискательство, апокалиптизм, отвержение советского прошлого и его нравственный пересмотр, наивная вера в построение будущего «по совести». Поместив действие повести «За миллиард лет до конца света» в Туркмению, Сокуров и Арабов не просто добились моментальной узнаваемости у зрителя апокалиптических пейзажей Стругацких, но и на века создали моментально узнаваемый видеоряд под музыку Шнитке, который будет будоражить воображение, мышление и нравственное чувство любого интеллигентного зрителя, особенно христианина картинами близости нам конца света, если только мы не переосмыслим свою жизнь и жизнь своей страны.
«Спаси и сохрани» отторгает от себя зрителя с такой неумолимостью, с таким упорством, почти полностью игнорируя законы традиционного киноязыка, что публике, особенно той, которая знакома с романом Флобера и любит его, приходится очень трудно, мучительно при просмотре этой в общем-то хорошей, но невыносимо претенциозной картины. В четвертом своем полнометражном фильме вновь берясь за экранизацию, Сокуров на этот раз относится к литературному материалу достаточно внимательно и бережно, не перепахивая его вдоль и поперек. Однако, сохранение основных сюжетных перипетий флоберовского романа не должно нас обмануть: «Спаси и сохрани» – во многом спор с автором, а не иллюстрация его точки зрения.
Эта картина получила несколько призов от феминистской общественности не случайно: ведь если у Флобера книга строится на антитезе агапической любви Шарля и эротической страсти Эммы (не зря она почти ненавидит свою дочь, о которой, по идее, должна заботиться), то у Арабова и Сокурова Эмма – чужак в мире мужчин, ее образ отчетливо виктимизирован, чего у Флобера не было. По этой причине картина Сокурова получается недостаточно объемной в сравнении с романом, но это не должно увести зрителя от созерцания достоинств «Спаси и сохрани». Ведь, это не вполне феминистское кино, здесь есть и элемент богоискательства (как во всех «перестроечных» фильмах Сокурова), особенно в сценах умирания Эммы и ее похорон (три гроба символизируют, видимо, хранилища для тела, души и духа), и феноменология телесности.
Никогда раньше телесность не эксплицировалась Сокуровым в такой откровенно эротическом виде, при том что тела в фильме (в том числе и тело Зервудаки) подчеркнуто асексуальны, дебелы, вопиюще некрасивы. Сокуров в этой картине, в которой можно было бы легко сократить постельные сцены, и она от этого бы ничего не потеряла, пытается вернуть телесность в кино во всей ее непривлекательности, обыденности, непоэтичности. Этот эффект достигается режиссером парадоксальным образом: за счет визуальной красоты силуэтов, пейзажей, костюмов, декораций. Тело на этом фоне выглядит неоформленной грудой мяса.
Важно, что Михаил Ямпольский, разбиравший «Спаси и сохрани» в одном их своих эссе, посвященных Сокурову, пытается интерпретировать телесность в фильмах этого режиссера с позиции книги Мориса Мерло-Понти «Феноменология восприятия», в которой французский философ рассматривает тело как сосредоточие человеческого, как орган познания – не разум, а тело главным образом познает мир. Тело Эммы Бовари во всем перипетии его любовных увлечений – это будто птица в клетке мужского мира, оно в нем задыхается, ибо все ее мужчины рассматривают Эмму как объект своего наслаждения. Но Эмма еще и молится, пытается нутром тела познать Бога, и здесь в дело интерпретации сокуровского кинотекста вступает Жорж Батай.
У Батая сексуальность – это органическое средство богопознания, только Бог у него не христианский, а какой-то люциферический. Но Сокуров и Арабов не оступаются здесь от христианской антропологии ни на йоту: им важно показать трагедию героини, идущей по жизни греховными путями, заплутавшей и потому погибшей. Героиня Зервудаки, без работы которой трудно было бы представить себе этот фильм, столь ее пластика сластолюбива, чувственна, столь ее Эмма и застенчива, и разнузданна одновременно, – магнетический центр фильма. Надо признать, что актерские работы у Сокурова всегда на высоте, даже в «Скорбном бесчувствии», «Спаси и сохрани» – не исключение. Особенно, конечно, удался образ Шарля, интерпретация которого диаметрально противоположна флоберовскому, у последнего он – добряк и альтруист, пусть и недалекий, у Сокурова он – ужасный образец мужского шовинизма, хамоватого и ограниченного.
Итак, для постановщика важно было создать визуальную антитезу духовной красоты, видной в силуэтах, горных пейзажах (божественное присутствие в природе?), костюмах, декорациях, общей одухотворенности внешнего мира, который невероятно красив (никогда еще Юриздицкий не работал так величественно, чего стоит один лишь план Эммы на лошади!), и дебелой телесности, ищущей себя в сексуальности, однообразной и плоской. Эмма, конечно, – жертва мужского мира, чужая ему, страдающая от непонимания, но ее душевные поиски заземлены телесностью. Главная драма госпожи Бовари, по Сокурову и Арабову, в том, что она пыталась обрести себя, познать себя не теми методами, которыми было надо это делать, она стремится познать душу посредством тела, а это невозможно.
Сокуровские тела страдают и мучаются в безбожном, стремительно разлагающемся мире, они не способны рефлексировать, они инфицированы материализмом окружающей реальности, обездушены, но в «Спаси и сохрани», в отличие от первых трех фильмов Сокурова, есть духовность самого мира (ведь это мир 19 века!), из которого еще не ушел Бог, потому в нем еще можно найти себя в отличие от предапокалиптического распада конца ХХ века. «Спаси и сохрани» так называется именно потому, что мир и Бог образуют в этом фильме единое целое, потому они еще могут спасти, их еще можно найти, но искать надо Бога и гармонию в Нем и через Него душой, а не телом, иначе хоронить придется не только тело, но и душу с духом.
«Спаси и сохрани» в своей первоначальной версии идет почти три часа, что сильно утяжеляет восприятие, к тому же фильм не реставрировался, и потому смотреть его трудно даже физически, и он не пользуется популярностью даже у фанатов Сокурова. При всем при том, что режиссер следует Флоберу лишь внешне, используя канву его романа для собственных построений, однако, эти построения не банальны и нуждаются в герменевтическом осмыслении вдумчивого, адекватного зрителя, которому не жаль три часа своего времени на медленный, медитативный, но хороший авторский фильм, которым «Спаси и сохрани» и является.
«Круг второй» – первая картина Сокурова по оригинальному сценарию после четырех экранизаций, снятых им подряд, это вместе с тем почти литературный кинотекст: неторопливый, медленный, медитативный. На этот раз Сокуров снял медитацию о смерти, вернее о ее советском понимании, о танатологическом культе. В одном из эпизодов не случайно вспоминается Ленин, чья мумия почти уже сто лет хранится и обхаживается, став объектом атеистического поклонения. Труп отца, который Малянов хочет похоронить, манипуляции с ним образуют ткань этого безрадостного, безысходного, но выдающегося фильма, этот труп – своего рода артефакт прошлого, которое никак не предается забвению, которое никак не могут похоронить.
Спустя семнадцать лет в «Грузе 200» Балабанов вернется к экспликации советской танатологии, выразив ее в емкой метафоре. Для Сокурова же антитеза интеллигентного, рассеянного сына и трупа отца-военного нужна не только для того, чтобы противопоставить интеллектуализм идеологическому официозу, который уже смердит и приказал долго жить, это кино не столько о смерти страны, сколько о том, что настоящее бессильно похоронить свое прошлое. Отца, как и сына, играл тот же актер, только загримированный, – Петр Александров, прекрасно вписавшийся в телесную фактуру сокуровских фильмов с их эстетикой культурного полураспада.
Долгое время мы видим лишь части мертвого тела, которое спрятано в закадровое пространство, так, что можно подумать, что мы имеем дело с трупом зрителя, но в какой-то момент мы видим крупный план лица трупа и понимаем, что Малянов хоронит самого себя, своего двойника, или, быть может, душа хоронит свое тело. Михаил Ямпольский в статье «Смерть в кино» писал о том, что Сокуров преодолевает в этой картине негласное табу кинематографа на изображение смерти во всей ее фактичности, необратимости и некрасивости. Коммерческое кино показывает смерть как аттракцион, как карнавал (тем более это было популярно в 90-е с появлением режиссеров-скрипторов, таких как Тарантино и Гай Ричи), оно выполняет терапевтический эффект по избавлению зрителя от танатофобии.
Сокуров же идет принципиально иным путем, заземляя смерть, избавляя ее репрезентацию от внешней бутафорной эффектности, для него важно показать осязаемость материалистического ритуала смерти в советской культуре, потому он так подробно показывает манипуляции с трупом, оформление документов, бюрократические вопросы анкеты (самый сильные – два эпизода с представительницей ритуальных услуг: актриса справилась на отлично, хамоватость и эмоциональная индифферентность ее героини смотрится антитезой к рассеянной скорби Малянова).
Вряд ли в «Круге втором» режиссер и сценарист хотели создать притчу о гибели страны и ее нелепых похоронах, скорее их заботило обезличенное, равнодушное, атеистическое восприятие смерти в СССР, против которого, сам того не понимая идет Малянов, когда отказывается кремировать отца. Важно, что тела в этой картине ведут себя неловко, им неудобно, они мучаются, они неповоротливы, нелепы, живое здесь мало отличимо от мертвого (в Малянове-сыне еле теплится жизнь, ему все равно, он – почти живой труп). В каждой предшествовавшей «Кругу второму» картине Сокурова есть труп, ли его видимость и манипуляции с ним, смерть тела в его режиссерской вселенной – выражение тотального окружающего распада, гниения материи, лишенной скрепляющего ее духовного начала.
В «Круге втором» эта деградация телесности и вещественной разрухи (вспомним обстановку дома, в котором разворачивается действие, его запустение) доведена режиссером до своего логического конца. К тому же музыки в фильме почти нет до того момента, когда сын собирается сжечь вещи отца: прошлое окончательно предается огню, и в этом есть нечто величественное. Своей экспликацией материалистических установок и советских ритуалов в отношении смерти «Круг второй» почти непереносим для зрителя.
В то же время, как показала уже следующая картина Сокурова «Камень», этот режиссер и его сценарист – возможно, последние апостолы духовности в кино, и даже тогда, когда они репрезентируют смерть во всей ее конкретности и фактичности, то понимают, что бездуховность и распад мира и тела вследствие ее – это аномалия, ставшая нормой в нашем проклятом, кровавом, заблудившимся в идеологической лжи ХХ веке.
Можно сказать, что «Камень» образует с картинами «Круг второй» и «Тихие страницы» своего рода трилогию о связи прошлого и настоящего, о тупиковости материалистического мировоззрения и культуры и поиске духовных связей с классической культурой, не отравленной советским опытом. «Камень» вышел на экраны в 1992 году, был восстановлен Сокуровым в режиссерской редакции в 2009 году, но остался незамеченным как в начале 90-х, так и в конце нулевых, и тем более сейчас. Название предыдущей картины Сокурова указывало на то, что для русской культуры начинается новый круг ада, советский период был лишь первым, «Камень» же углубляет и расширяет тему ненужности культуры в новой России.
Появление Чехова в ночном ялтинском доме-музее не вызывает у его сторожа никакого интереса, великий писатель остается чужим в своем доме и в том времени, в которое он попал. Этот дом – хранилище классической духовности, самостоятельный, третий герой этой камерной драмы с участием всего лишь двух актеров. Здесь, в отличие от «Круга второго», музыка звучит постоянно, одухотворяя и наполняя смыслом черно-белые аскетичные и статичные (с едва заметными движениями камеры) планы. «Камень» – один из самых пронзительных и загадочных фильмов Сокурова, как это не шло вразрез с его прошедшими лентами, он – о преодолении смерти, о бессмертии.
Своей лентой Сокуров показывает, что прошлое живо: удалив советский период ножницами отрицания, новая Россия не смогла восстановить утраченную связь с досоветским прошлым, классическая культура оказалась не востребована в условиях рынка. Несчастный, безымянный сторож в исполнении все того же Петра Александрова (сыгравшего Малянова в «Круге втором») воплощает собой рахитичное постсоветское настоящее, равнодушное к жизни и смерти: он даже не спрашивает Чехова о его книгах, почти не говорит с ним, хотя будь любой на его месте, он бы засыпал Чехова вопросами и восторгами.
Великий писатель в этой картине витален, исполнен жизни, интеллигентен, привязан к материальным радостям (как например, пронзительны сцены, в которых он хочет разжечь камин, или одевается в свою прежнюю одежду), но он все больше ощущает свою чуждость в мире, в который пришел (заметим, в теле). Здесь высокая культура никому не нужна: в доме никто не живет, и видимо, почти никто не посещает, однако, само присутствие сторожа рядом с Чеховым, аура духа великого писателя возвышает его. Герой Александрова едва заметно одухотворяется, воспаряет над земным, также и Чехов в блистательном, нюансированном исполнении Мозгового, проникается драмой российского безвременья.
Здесь кроется ответ на вопрос, почему Чехов, а, например, не Толстой: Чехов лучше всех выразил пустоту времени, ожидание, томление духа под бременем материального, потому, попадая в наше время, он будто оказывается в сконцентрированном мире своих произведений, в атмосфере тоски, доведенной до предела. В Чехове, в том, что он олицетворяет и несет с собой, говорят Сокуров и Арабов, больше жизни, чем в нашем жидком времени, прошлое, классическое искусство живее всех живых (потому в фильме звучит музыка Чайковского из оперы «Евгений Онегин» – средоточие русской культуры, а также произведения Моцарта и Малера), оно способно вдохнуть жизнь даже в самую разочаровавшуюся и отчаявшуюся душу, какой и является душа сторожа и каждого из нас.
Почему «Камень»? Камень – это нечто твердое, незыблемое, неменяющееся, речь, видимо, идет о твердыне духа, подлинной духовности, о прочности и неизменности великого прошлого, которое олицетворяет здесь Чехов, и которому приобщается герой Александрова и сам зритель. Сокуров и Арабов после серии своих танатологических, безысходных фильмов о бездуховности и распаде мира в «Камне» создали настоящий гимн духу, бессмертию, победе высокого над низким. Не питая иллюзий по отношению к рыночной действительности, погрязшей в варварстве и насилии, преодолев советскую бездуховность, они обратились к живительному роднику классики и доказали, что она способна питать людей и сейчас.
После неудачной попытки снять фильм по собственному сценарию, какой стали «Тихие страницы» (путанное, почти безмолвное блуждание героев прозы 19-го века по Петербургу), Сокуров вернулся к сотрудничеству с Юрием Арабовым, написавшим для него крохотный сценарий для часовой картины «Мать и сын». Однако, несмотря на скромный метраж и камерный формат лента получилась емкой и многозначной, хотя притчевость в ней – не главное: это прежде всего кино о родственных связях, о любви матери и сына, любви чистой, агапической, беспримесно альтруистической.
Когда-то на давней пресс-конференции Сокуров возмущался тем, как эта картина была воспринята на Западе, его в частности спросили журналисты, еще не видевшие фильма: «Это кино про инцестуальную любовь?» Сокуров возмущенно ответил: «Фильм называется «Мать и сын», вы что не понимаете?» Этот почти анекдотический эпизод еще раз говорит о том, что Сокуров – чрезвычайно несовременный художник, более того идущий откровенно в противоход фестивальным трендам.
«Мать и сын» – кино пиктографическое, цитирующее русскую пейзажную живопись, особенно передвижников, оно вписывает двух героев в контекст природной гармонии, показывает, что их отношения органичны миропорядку, созданному Богом, потому в нем так ощутимо влияние Тарковского, особенно пантеистического «Соляриса», Здесь нет войн, конфликтов, крови, есть только смерть, вносящая диссонанс в семейную идиллию: умирание матери и ухаживания за ней сына (сколь трогательны их совместные прогулки, в которых сын носит мать на руках!) должно когда-то закончится, герои осознают, что живут лишь в иллюзии вечности, время подспудно разрушает их жизни.
Используя искажающие изображение объективы, Сокуров делает пейзажи и тела героев нереальными, сновидческими, превращая свой фильм в фантазию о любви. Мать и сын не имеют имен, кроме них никого вокруг нет, лишь поезд временами проносится где-то вдали. Сын привязан к матери, как человек – к природе, тесно соединен с ней ментальной пуповиной, потеря матери для героя оборачивается скорбью и нежеланием жить. В этом мире нет Отца, который мог бы вторгнуться в эту идиллию, нарушить связь матери и сына, стать для последнего авторитетом и ориентиром. Потому при всей агапичности, возвышенности чувств героев, им свойственна какая-то первобытность, мифологичность, в этом мире еще не проведена граница между внешним и внутренним, человек еще при матери-природе, он еще не повзрослел, чтобы осознать свою отдельность от нее, свою самостоятельность.
Однако, в фильме нет болезненной психотичности связи с матерью-природой, как, например, в ранних лентах Линча, Сокуров и Арабов программно чужды психоанализу, хотя они понимают, что показанный ими универсум – это мир вне культуры, то есть Отцовского начала, вне Символического (в интерпретации Жака Лакана), это мир Реального, травматического опыта, потому смерть здесь особенно ужасна, ибо она всецело биологична, негативна, нигилистична в своем отрицании духовного. В картине «Мать и сын», пока герои живы, они духовны, но эта духовность мифологического человека, духовность язычника, намертво связанного с природой, культура как терапия танатологического опыта здесь еще невозможна.
«Мать и сын» – кино не только о человеке и природе, об их связи, которая порой оказывается сильнее связи с Богом, с Отцом, Который всегда приходит позже, это еще и кино о родственности, о естественности любви между матерью и сыном – первой любви в жизни человека, потому шепот актеров Алексея Ананишнова и Гудрун Гейер, справившихся с труднейшей работой внутри не просто символов, а архетипов, их, на первый взгляд ничего не значащие фразы, перемещения их тел и устремленность их душ, так близки каждому из нас, особенно тем зрителям, которые не перестают ощущать вину за то, что так и не вернули долг любви своим матерям.
Второй фильм условного цикла Сокурова о родственной любви – уже об отношениях человека и Бога и вместе с тем о единосущии: «Отец и сын» – это теологическая притча, которую можно воспринимать и как просто кино о человеческой любви. Согласно христианской догматике единосущны не только Бог-Отец и Бог-Сын, но и люди между собою, тем более родственники. Фильм Сокурова то парит в символизме, то приземляется в конкретику, но этот баланс не выдержан, как в «Матери и сыне» и других совместных фильмах Сокурова и Арабова, «Отец и сын» поставлен по сценарию Сергея Потепалова, и его никак нельзя признать в полной мере удачным.
Сценарист, безусловно, ориентировался на Арабова, на притчевую объемность его образов, но вышло это у него подражательно и несамобытно, при всей вторичности сценария фильму вредит еще и монтажная форма: слишком много коротких планов, их состыковка не плавна, резка, нарочита, такой монтаж противоречит медитативному ритму большинства других фильмов Сокурова, делает «Отца и сына» более зрительским, более доступным, чем следовало бы. При этом актеры играют вполне по-сокуровски: телесно, выпукло, фактурно, вне канонов исполнительского психологизма. Вследствие такого подхода, форма «Отца и сына» вышла весьма неоднородной, фильм не сложился в единое целое, хотя символизм и был выдержан на всем его протяжении на высоком уровне.
Прямо указывая, за счет упоминания евангельской притчи о блудном сыне и мысли святых о любви отца и сына («Любовь Отца распинающая, любовь Сына распинаемая» – звучит в фильме дважды как маркер символических отношений героев), история, рассказанная в фильме, вырастает до метафоры отношения Бога и верующего в Него человека. Герой Неймышева – так называемый «постоянно верующий», то есть тот, кто, не испытывая потрясений, всю жизнь остается с Богом, хотя иногда и конфликтует с Ним. Герой Лаврова – тот самый блудный сын из евангельской притчи, потерявший связь с Небесным Отцом, он мучим чувством вины и печалью и, на самом деле, он ближе к Богу, чем герой Неймышева, у которого все в порядке (не зря в одной из сцен тот буквально выгоняет героя Лаврова, повторяя тем сюжет евангельской притчи).
Важно, что оба героя, отец и сын, – военные, они обладают совершенными, атлетическими телами, выражающими их внутреннюю гармонию, физическая похожесть Щетинина и Неймышева призвана подчеркнуть единосущие отца и сына. Удивительно то, что в фильме нет христологической составляющей, герой Неймышева ни разу не помещается в метафорическую оболочку Христа, и это очень показательно в плане половинчатости символики «Отца и сына», ее непоследовательности, рыхлости, незаконченности (картина «Мать и сын» удалась именно потому, что Арабов и Сокуров удалили из нее все лишние элементы, включая других актеров).
В «Отце и сыне» героев очень много, пусть эпизодических, но сильно захламляющих картину, включая девушку, любовь к которой у героя-сына все никак не реализуется – якобы мешает отец. Хотя с позиции психоанализа Жака Лакана, вписанность индивида в символический порядок, то есть в культурную матрицу Отцовского Закона как раз и означает его психическую нормальность, его состоятельность как независимого существа в том числе в половом плане. Справедливости ради стоит отметить, что Потепалов умело, быть может, неосознанно, использует образ армии как выражение отцовской иерархии, порядка, дисциплины, закона, как метафору организованности жизни.
Важно, что действие фильма разворачивается в городе, не на природе, как в «Матери и сыне», да к тому же в непосредственной близости к небесам – на крыше, этим сценарист и режиссер бессознательно выражают хотя бы частичную правоту психоаналитических прозрений Жака Лакана об отношениях детей и их родителей, являющихся, по его мнению, метафорой отношений человека вообще с Природой и Культурой. «Отец и сын» интересно смотреть лишь в одном случае – если вы знакомы со структурным психоанализом, в противном случае, фильм покажется, действительно, за уши притянутым символизмом в отличие от ленты «Мать и сын», в которой есть живая конкретика человеческих отношений при минимуме художественных средств.
В примыкающем к сокуровской дилогии о родственных отношениях картине «Александра» мы видим иную расстановку акцентов, чем в «Матери и сыне» и «Отце и сыне»: здесь Родина-мать в исполнении Вишневской наделена одновременно и отцовскими, и материнскими качествами, из-за чего лакановский символизм дилогии значительно расширяется. При этом перед нами – один из самых человечных и теплых фильмов Сокурова, буквально просветляющий зрителя. Историю пожилой женщины, приехавшей к своему внуку-военному в Чечню, режиссер написал сам без участия Арабова, из-за этого многие диалоги кажутся декларативными, нарочитыми, излишне прямолинейными.
Однако, «Александра» ничего из-за этого не теряет, становясь размышлением о судьбах двух народов, которые в очередной раз трагически пересеклись. Видимо, замысел этой картины возник у Сокурова во время работы над большими документальными проектами «Повинность» и «Духовные голоса», в которых он с большой убедительностью и достоверностью запечатлел армейский быт, в том числе и во время войны. В данной картине нет военных действий, они остаются за кадром, лишь подразумеваются, зато одиссея Александры Николаевны по военной части и за ее пределами показаны подробно, что сделано режиссером не случайно.
Сокуров хочет создать некое обобщение, почти притчу о том, как Россия, Родина-мать сокрушается, переживает о судьбе своих сыновей. Вообще патриотическое понимание Родины всегда наделяет ее отцовскими качествами: жесткостью, даже жестокостью к своим детям, простым гражданам, она смело посылает их на смерть, без сантиментов. Сокуровская Россия в исполнении Галины Вишневской, которая, как когда-то Мария Каллас в роли Медеи у Пазолини, излучает царственное величие, достоинство, в то же время в отличие от Медеи, любит и жалеет своих детей и мечтает лишь об одном – об окончании войны. Важно, что в финальной беседе Александры Николаевны с внуком, она постоянно настаивает, чтобы он женился, ибо, по ее мнению, женатый более ценит жизнь, чем холостой и менее жесток на войне.
В фильме Сокурова есть и символ Чечни, выраженный в образах местных женщин, особенно Марики, с которой у Александры состоялась кульминационная беседа, из нее становится понятно, что режиссер никого из воюющих сторон в чеченском конфликте не осуждает, он просто констатирует пропасть непонимания между русскими и чеченцами. Между мужчинами. Женщины же у него – сестры, и они друг друга как раз очень хорошо понимают. В «Александре» Сокуров создал один из самых вдохновенных образов нашей страны, это кино подлинно патриотическое, но, как и в стихотворении Лермонтова, любит Сокуров в России вовсе не «славу, купленную кровью» и не «полный гордого доверия покой».
Сама Родина наша, Россия в этом фильме показана как умеющая любить, то есть находиться в несогласии со своими правителями-людоедами, которым выгодно создавать из нее образ прорвы, бездны, Медеи, убивающей своих детей. У каждого народа в этом фильме своя правда, но Россия и Чечня, выраженные в образах Александры и Марики, понимают друг друга, как родные сестры. Гуманизм сокуровского фильма в том, что он показывает правоту и изначальную гуманность женщины, Родины, природы, окружающего мира, его гармонии, созданной Богом – Отцом, у Которого с Матерью-Землей нет никаких споров и счетов, но полное взаимопонимание.
«Александра», настолько, насколько это возможно разрушает не только стереотипы о России, но и показывает умозрительность психоаналитического противопоставления Отца и Матери, Природы и Культуры – между ними нет противоречия, говорит Сокуров, хотя первые два фильма его цикла о родственной любви, казалось бы, говорят обратное. Но в том-то и была их идейная неполноценность, что они показывали отношения матери и сына, отца и сына отдельно, а не в треугольнике взаимной гармоничной любви.
Гармония «Александры», и художественная, и концептуальная (звучащая как рефрен в голосе молодой Вишневской, поющей романс) говорит о том, что при всем кажущемся несовершенстве мира, при всех его проблемах, при всем разладе и хаосе в отношения между Человеком, Природой и Культурой, все эти нестроения происходят от забвения изначального Богом данного созвучия внутри треугольника Мать-Отец-Сын. Удивительно, но за что бы не брался Сокуров, какой бы замысел он не осуществлял, глубинная духовность и гуманность его гения просвечивает буквально в каждом кадре любой его картины, имплицитно свидетельствуя о метафизической красоте и совершенстве мироздания.
О «Русском ковчеге» столько писали, так им восхищались (в основном технической его составляющей), что даже трудно что-то добавить, хотя я видел фильм по меньшей мере трижды и ни могу сказать, что был им потрясен хоть раз. Возможно, сейчас, когда прошла в прокате «Франкофония», которую необходимо рассматривать в симбиозе с «Русским ковчегом», понять эту картину станет проще, чем при ее выходе на экран. С другой стороны, в «Ковчеге» нет ничего принципиально элитарного, это вполне зрительская лента, хотя из-за отсутствия монтажа смотреть ее физически тяжело.
«Русский ковчег» – притча об историческом времени, по которому несется русская культура, выражением которой становится Эрмитаж: каждый зал музея – своя эпоха, здесь оживают исторические личности, события истории, здесь иностранец в блистательном исполнении Дрейдена, (образ, в котором, безусловно, угадывается маркиз де Кюстин) беспощадно критикует подражательность русской цивилизации, ее раболепство перед властью с вечным эффектом «потемкинских деревень». В то же время рассказчик (фильм снят от первого лица) голосом самого режиссера спорит с гостем-иностранцем, защищая самоценность русской культуры.
Вот в общем-то и весь сюжет, все остальное – безостановочное дрейфование по залам Эрмитажа, становящееся путешествием по эпохам. Моя жена при просмотре фильма со мной в кинозале уснула, в то время как теща (смотря «Ковчег» опять же со мной) буквально ловила каждую сцену и слово фильма: такое противоположное восприятие и объясняет споры вокруг этой картины, которую можно назвать скорее познавательной, чем увлекательной. Такое ощущение, что Сокуров снимал ее для тех, кто никогда не был в Эрмитаже, ибо сам подход, при котором каждый зал – отдельная эпоха, применялся и при составлении экспозиции этого музея. Другое дело, что режиссер населил эти залы людьми в костюмах соответствующих эпох, но они – статисты, полновесных актерских работ в фильме нет (за исключением исполнения Дрейдена).
По этой причине «Русский ковчег» – не вполне художественное кино, как и «Франкофония», впрочем, а скорее научно-популярное, искусствоведческое, которое можно применять при составлении лекций, семинаров, уроков в школе. Эта картина удалась лишь как смелый технический эксперимент, но не как произведение искусства, не как самоценный текст, потому фиктивная составляющая в ней так слаба. «Русский ковчег» при всей дискуссионности позиции героя-иностранца, которую режиссер, как показывают его интервью, все же разделяет, – тем не менее гимн русской культуре, ее сокровищам и всем тем, кто сохранил их наперекор историческим вихрям (потому одними из самых сильных вышли сцены выживания Эрмитажа в блокадном Ленинграде – параллель с ними и сгубила, кстати, «Франкофонию»).
На мой взгляд, «Франкофония» не вполне сложилась по целому ряду причин: во-первых, режиссеру стоило бы снять полностью документальный фильм, чем добавлять в него не очень удачные игровые элементы. Во-вторых, второго «Русского ковчега» не получилось, на этот раз картина получилась рыхлой, ей не хватило цельности, а многие эпизоды выглядят как самоповторы из ленты об Эрмитаже. Наконец, главное уязвимое место картины – очевидная слабость самой истории спасения Лувра от нацистского варварства, когда сердобольный чиновник годами откладывает отправление произведений искусства в Германию, которая становится особенно заметной на фоне шокирующих хроникальных вставок будней блокадного Ленинграда. Единственное, на что стоит посмотреть во «Франкофонии» – это сам Лувр, особенно, если вы никогда так подробно не видели собранные в нем произведения искусства, поражающие воображение.
Сокуров сам себе навредил, когда провел параллель между оккупированным Парижем и блокадным Ленинградом: слишком все в истории Лувра в 40-е выглядит бледно, невыразительно на фоне ленинградской трагедии. Режиссер пытался придать «Франкофонии» черты исторического детектива, а получилось документальное исследование: немного из истории создания Лувра Наполеоном, немного о насилии Третьего Рейха при взятии Франции, немного о Петене и правительстве Виши, но в целом ни о чем конкретно.
Такое ощущение, что Сокуров, как Годар, собирает фильм буквально из ничего, из того, что есть под рукой, не задумываясь особенно о структуре целого и единстве замысла, в результате чего и получается столь сумбурное, слабо организованное, дряблое по режиссуре кино. Особого внимания заслуживают несколько комические эпизоды с участием Бонапарта, которые смотрятся своего рода тенью Гитлера и его предшественником: он самолюбиво рыскает по Лувру, стремясь всюду заявить о своей ключевой роли в создании той или иной художественной коллекции.
Тем не менее, трудно согласится с мнением Плахова, что у Сокурова на этот раз получилась комедия – слишком трагичны выводы автора, слишком беспросветно его видение исторических перспектив. Искусство порой нужно простым смертным и иногда они придумывают самые невероятные ухищрения, чтобы его спасти. Но это скорее исключение, чем правило. Те, кто развязывает войны, стремятся к варварскому, ничем не контролируемому разрушению, и искусство, как наиболее хрупкая сфера человеческой деятельности, становится одной их первых его жертв.
«Франкофония» не получилась, это понимает и сам режиссер, о чем свидетельствует его разговор с другом вначале, на фоне титров, фильм не сложился, поскольку нельзя игнорировать структурность элементов, рыхлость композиции губит замысел по преимуществу, не позволяет ему надлежащим образом раскрыться, потому мы и получаем в результате почти бесконфликтное кино. В том же «Русском ковчеге» при всей его новаторской структуре было столкновение цивилизационных парадигм России и Запада, во «Франкофонии» есть лишь слабый конфликт между нацизмом и хранителями древности.
В заключение нашей работы попробуем подступиться к самой признанной критиками и зрителями области творчества Сокурова – его «тетралогии власти», которая, к счастью, несмотря на финансовые и иные трудности полностью завершена. Ведь именно с первой ее части, «Молоха» началось безусловное приятие отечественной критикой сокуровского кинематографа, после этой картины уже никто не мог отрицать мастерства постановщика и сценариста, сделавших все возможное, чтобы она получилась максимально зрительской и доступной публике. Насыщенный интереснейшими диалогами, выдающейся визуальной фактурой, блистательной актерской игрой и незаметным, артикулированным монтажом при участии внятной, сдержанной режиссуры, «Молох» стал подлинным триумфом нашего кино в годы тотального безденежья и малокартинья.
Лента Сокурова построена на сказочном, архетипическом противопоставлении Красавицы и Чудовища: уже первая сцена с нагой Евой Браун как бы намекает на заточение, плен прекрасного тела в логове монстра, так же, как и ее танцы на столе и драка-пародия с Гитлером. Виктимизация образа Евы Браун – возможно, смелое допущение Арабова, не имеющее фактологического подтверждения, но вполне логичное, если иметь в виду физическое уродство и ипохондрию Гитлера, закрепощающего, как сказочный монстр, любую красоту. Молохом, кровавым языческим божеством, требующим жертв, выступает здесь не столько сам немецкий тиран, сколько та система насилия и угнетения, которую он создал, метафорой ее и становится его резиденция, похожая на пещеру.
Глубочайшее проникновение Леонида Мозгового в бездны зла, в характер кровавого диктатора, тончайшие пластические и мимические нюансы выстраивают перед нами колоссальный в своем уродстве портрет ничтожества, возведенного на престол. Любопытные факты из жизни Гитлера, такие как вегетарианство, ипохондрия, зависть к Геббельсу, любовь к пошлым анекдотам и сальностям, оголтелое богоборчество и антихристианство используются Арабовым и Сокуровым для того, чтобы объяснить этот парадокс всеобщего поклонения ничтожеству. По мысли создателей «Молоха», окружение Гитлера (Борман, Геббельс, даже рядовые эссэсовцы) ненавидело, презирало и насмехалось над ним, подспудно мечтая о том, чтобы рано или поздно сместить с трона этого маньяка.
Другое дело, что фюрер оказался не так прост: требуя поклонения себе и той системе, которую он выстроил, став языческим идолом для миллионов немцев, он постоянно боялся оказаться в глазах других неполноценным, оттого пытался всеми средствами доказать обратное. Оттого нелепы суждения Гитлера и его подчиненных о новом гармоничном человеке при всем их физическом и психическом уродстве (Геббельса вообще играет актриса (!), подчеркивая этим его мужскую несостоятельность). В «Молохе» бунтует лишь Ева Браун (даже не знаю, подкреплено ли это фактически), как архетип красоты и гармонии, и восстает она против зла, которое всегда агрессивно, хамовато и пошло.
Сокуров и Арабов создали антитезу злу в своем фильме – это всегда хрупкое добро, женщина-жертва или печальный пастор: диалог Гитлера с пастором – вообще ключевой для понимания художественной системы «Молоха». В нем сценарист и режиссер показывают несовместимость добра и зла, христианской гуманности и ницшеанского социал-дарвинизма, объясняют, почему слабое, уродливое ничтожество стало обладать такой властью: ему просто стыдно было быть слабым, было стыдно молиться, просить чего-то у Высшей силы, что однозначно признанию над собой Существа более могущественного. Гитлер и его последователи не хотели быть слабыми, не хотели, чтобы над ними кто-то был, хотели сами быть идолами и богами.
Но слабый человек продолжает оставаться слабым, и Бог над ним никуда не девается, потому эта попытка нацистов ницшеански пыжиться и строить из себя сильных и даже победить смерть (финальная важная фраза Гитлера, опровергаемая Евой Браун) рано или поздно обернулась пшиком: «сильные» трусливо покончили с собой, оставив после себя лишь руины, кровь и бедствия. Лента «Молох» – не столько о Гитлере, она даже не о нацизме и ницшеанстве, сколько о бесовской гордыне всех массовых убийц и преступников, их тщетной попытке преодолеть человеческую экзистенциальную неполноценность, закончившейся их бесславной смертью и проклятием будущих поколения, ибо бытийная неполноценность человека превозмогается лишь в Боге, альтруизме, творении и выпестовывании хрупкого добра, а не в агрессивной мизантропии, кровавой истерии и поклонении языческому идолу войны. Тех, кто отказывается это понимать, ломает сама жизнь, а их следы беспощадно стирает время.
Следующим шагом Сокурова в постижении мистерии власти стал «Телец» – кино о том, как человек, бывший прежде идолом и вершителем истории, оказался выброшен на ее обочину. «Телец», как и «Молох», – лента о диалектике силы и слабости, но на сей раз еще и об очеловечивании безбожного лидера физической немощью. Что бы не говорили о «Тельце» левые и прочие советопоклонники, это фильм, снятый с гораздо большим сочувствием к главному герою, чем «Молох». Второй фильм тетралогии – об умирании как выпадении из символического порядка, постепенном провале Ленина в Реальное, в животное состояние безумия и маразма.
Поклонников Ленина, которых несмотря на кровь, пролитую им в ХХ веке, у нас тысячи, если не миллионы, больше всего раздражало и раздражает в «Тельце» изображение Ленина немощным и умирающим, демифологизация и дегероизация его образа, то есть по сути дела – его очеловечивание. Сокуров, который в фильме выступает не только режиссером, но и оператором (притом блистательным), с одной стороны, повторяет прием, использованный им в «Молохе»: в центре фильма – лидер и его окружение, следящее за ним и потихоньку если не презирающее, то посмеивающееся над ним. С другой стороны, как отметил Михаил Ямпольский в статье, посвященной «Тельцу», название фильма на этот раз намекает на жертвенное животное, а не как в случае «Молоха» на языческого бога.
Создателям картины не просто жаль Ленина, они ему открыто сочувствуют, отдают должное его уму (закадровый комментарий – мысли Ильича намекают на то, как работает его мышление), но они и не могут не показать, как этот ум разлагается под воздействием болезни, как смерть ведет свою работу в теле и в душе вождя. Арабов и Сокуров изображают Ленина понимающим все о революции и ее последствиях без прикрас (одна из ключевых его фраз, почти пророчество: «Вы даже не подозреваете, что с вами будет после меня»), но его гордыня, как и гордыня Гитлера, столь велика, что все его размышления о своем народе и жизни окрашиваются в мизантропические тона.
Кульминацией «Тельца» становится, безусловно, встреча со Сталиным, в которой будущий «отец всех народов» вынужден ждать (едва ли единственный раз в жизни), где видно его нескрываемое презрение к Ленину и насмешка над ним: вождь выключен из истории, выброшен из Символического (на это весьма прозрачно указывает метафора с отключенным телефоном, который как назло заработает, когда он уже никому не нужен). Но сделала с ним это сама история, тоже она сделает и со Сталиным (вспомним гениальный эпизод на даче вождя в ленте Германа-отца «Хрусталев, машину!», из которого во многом и прорастает сам замысел «Тельца», снятого позже).
Психоанализ Жака Лакана утверждает, что нарушения речи и способности артикулированно, внятно мыслить у психотиков (синдром спутанности мыслей – один из первых признаков психоза) вызваны их выпадением из самого пространства языка, а сознание и бессознательное структурированы как язык. Можно сказать, что психоз – это расчеловечивание, оскотинивание человека, когда желания уже не сдерживаются, не опосредуются символическими цепочками (цепочками означающих, если использовать терминологию Соссюра), а реализуются напрямую, как у животных. Пространство непосредственно реализуемых желаний – пространство Реального, травмы, психоза.
Кровавые вожди ХХ века разрушили веками стоявший символический порядок христианской традиции с Богом-Отцом, фундировавшим и цементировавшим его, вместо него они пытались создать извращенное символическое пространство также с Отцами, то бишь самими собой во главе. Но такой порядок стоять не может, ибо нет трансцендентного Гаранта этого порядка, а любой человек слаб и не может выполнять роль Бога вечно еще и потому, что он смертен. С Лениным хитро вышли из этой ситуации – мумифицировали и выставили для поклонения его тело, но добились противоположного – сделали посмешищем. «Телец» Сокурова постоянно держит в уме зрителя эту загробную участь Ленина: вождя не просто сместили, его, как тельца принесли в жертву революции, у него отняли его тело.
Для Леонида Мозгового, уже игравшего у Сокурова Чехова в «Камне» и Гитлера в «Молохе», показать угасание сознания в больном теле вождя, которое потом станет объектом псевдорелигиозного культа, было серьезным актерским вызовом (как и для Марии Кузнецовой -сыграть домовитую, добрую, такую неканоничную Крупскую, начисто лишенную жесткости), но он с ним справился в полной мере. «Телец», начинающийся с внутреннего монолога Ленина об ангелах и электричестве, сразу задает христианские координаты осмысления образа вождя как слабого человека, которого наказало небо (финальный план фильма не случаен).
Одна из церковных молитв включает в себя прошение «христианской кончины живота нашего, безболезненна, непостыдна, мирна у Господа просим»: именно этого был лишен Ленин, как и большинство иных вождей, его умирание, как показывают Сокуров и Арабов, было мучительным, постыдным, болезненным (тоже, как мы видим в «Хрусталеве», было и со Сталиным). Бунт и драка Ленина за обедом, его крушение «экспроприированного» добра красноречиво свидетельствует, что телец революции, возомнивший себя молохом, сопротивлялся до конца. Однако, в фильме Сокурова нет насмешки над страданиями вождя: кем бы он не был, он был просто слабым человеком, посчитавшим себя вершителем истории, хотя всего лишь являлся ее жертвенным животным, к тому же выставленным после своей смерти на всеобщее посмешище.
«Телец» – это кино, которое уже не снимут в России, захламленной реанимированными в последние двадцать лет советскими мифологемами, ведь для создателей фильмов о вождях (в том числе таких, как Хотиненко) куда важнее идеализировать или демонизировать их, чем гуманизировать. И несмотря на то, что в «Тельце» мало приятного, как в любом фильме об умирающем, несмотря на то, что психоз, деменция, впадение в маразм – это путь расчеловечивания больного (любого, не только Ленина), все же сами его страдания, само зияние его экзистенциальной неполноценности, которое обнаруживается в бесчестии, бесславии, низвержении с престола гордыни – все это возвышает душу даже последнего кровавого и массового убийцы. Ведь страдания уподобляют Христу и спасают даже разбойника, распятого вместе с Ним.
Третий фильм «тетралогии власти» получился в ней самым необычным, ибо в «Солнце» нет ни развенчания тирана, ни его очеловечивания, главный герой этой картины – вообще не тиран. Японский император Хирохито, каким его показали Арабов и Сокуров, – скорее «лишний человек» в системе его обожествления, хрупкий цветок интеллигентности в мире зверства и насилия. Иссэй Огата делает все возможное, чтобы показать Хирохито психически неполноценным, но при этом не буйным, а тихим безумцем, от которого никому нет вреда. Как и Ленин в «Тельце», он все хорошо понимает про тот мир, который его окружает, и тоже не может ничего с ним поделать: характер Хирохито, как он представлен в «Солнце», очень напоминает последнего русского царя – слабовольного интеллектуала, оказавшегося у власти и уничтоженного ею.
Вновь, как и в «Тельце», выступая не только режиссером, но и оператором фильма, Сокуров добивается того, что его детище выглядит наиболее зрительским и простым по восприятию в сравнении с остальными его картинами. Начав уже в «Молохе» укорачивать планы, более активно используя монтаж и движения камеры, Сокуров делает свои последующие после «Молоха» картины более динамичными и легче усваиваемыми рядовым зрителем. Постоянная для режиссера танатологическая тема присутствует и в «Солнце», но подспудно, заявляя о себе открыто лишь в финальном диалоге. Сокуров в данной ленте довольно смело препарирует японские традиции, не критикуя их, но обнажая их тяжкое бремя, как для рядовых японцев, так и для императора.
Япония – сама по себе культура смерти, возведшая в традицию ритуальный суицид, она кажется дикой, варварской страной для европейца, американца и русского (не даром весь ужас западного человека перед этим танатоцентризмом показывают и «Письма с Иводзимы» Иствуда, вышедшие почти синхронно с «Солнцем»). Трагедия изображаемых Сокуровым процессов – в столкновении варварских феодальных традиций, ставших причиной милитаризма, крови и войны, и американского консюмеризма, стирающего любые традиции, в том числе и благие. Беседы Хирохито с генералом Маккартуром – конечно, кульминация картины, в них видна вся трагическая несоизмеримость двух мировоззрений, двух картин мира, одной из которых предстоит исчезнуть.
Как и во всех фильмах тетралогии, Сокуров никого не идеализирует и не демонизирует: Хирохито не повезло, он, как и Николай Второй, оказался не на своем месте, мир надругался над ним и выплюнул его как использованный материал. Божественный статус императора не позволял ему заниматься тем, что ему нравилось – гидробиологией и изучением языков, власть оказалась для него бременем непосильным и чуждым. Арабов и Сокуров трагически отвечают на главный вопрос о власти: «Что будет, если нами будут управлять интеллигентные люди, несущие добро?» Их ответ: «Ничего хорошего, история их перемелет и уничтожит».
Вся «тетралогия власти» показывает, что управление миром всегда оборачивается для человека обожествлением его персоны: если он – ницшеанец, то утопит мир в крови, стремясь доказать свою силу и божественность, но время все равно вернет его к изначальной сущностной слабости; если он – добр и божественный статус его тяготит, то исторический процесс просто перемелет его. Обладать властью, по Сокурову, для человека – всегда трагедия, это своего рода экзистенциальный пат, из которого нет выхода.
Стать властелином человеческих судеб, как показывает четвертый фильм тетралогии «Фауст», – значит заключить сделку с нечистым, может и неосознанно, но заключить. Ведь искушая Христа в пустыне, дьявол говорит: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твое» (Лк. 4, 6-7). По этой причине «Фауст» – ключевая лента тетралогии Сокурова, хотя на мой взгляд, и не вполне состоявшаяся.
Однако, назвать «Фауста» неудавшейся картиной не поворачивается язык: все в ней на первый взгляд кажется гениальным, именно поэтому его обязательно надо смотреть повторно, чтобы за завесой своих восторгов разглядеть симметричную художественную концепцию, ленту блистающую ледяной красотой, где все взвешено и просчитано, но сделано без души. Ни в коей мере не посягая на художественные достоинства «Фауста», среди которых: тщательная, почти германовская реконструкция эпохи, в которой лишь угадывается 19-й век, но больше походит на обобщенный портрет Просвещения; феноменальная пластическая и интонационная виртуозность Адасинского, визуальная и акустическая изощренность (в частности использование деформирующих изображение линз) и многое другое.
В то же время эта тщательность мозговой режиссуры в работе со сложным, эллиптичным сценарным материалом Арабова, с которым, как показали фильмы Серебренникова и обоих Прошкиных, адекватно обращаться может лишь Сокуров, выглядит кропотливым трудом отличника без малейших чувств и страсти. Да, это говорит горячий поклонник этой картины, когда-то оценившей ее высшим баллом, теперь же, повторно посмотрев ее, увидел гораздо больше аналогий с последним фильмом Германа-старшего, который очень не люблю, чем с такими шедеврами самого Сокурова, как «Молох». «Фауст», как и германовский «Трудно быть Богом», слишком много ставит на проработку массовки и антуража, чтобы при этом не забыть обо всем остальном.
Однако, фильм Сокурова благодаря арабовским диалогам все же не столь содержательно пуст как формально пышный «Трудно быть Богом»: большую часть картины (до появления Маргариты, когда в ткань ленты вторгается пиктографический момент) все держится на словесной и поведенческой дуэли двух заглавных исполнителей, в которой, бесспорно солирует Адасинский. При всей психологической дотошности Цайлера в создании портрета доктора Фауста, играть ему нечего, его персонаж лишь оттеняет Мефистофеля. Собственно, арабовско-сокуровская проработка образа дьявола, лишение его романтического очарования, вся гротескно-пародийная нелепость этого образа карикатурного зла – главный козырь и новаторство данного фильма.
Что же касается самого подхода вольной интерпретации, перепахивание гетевского текста вдоль и поперек, следование, что говорится «духу, а не букве», замалчивание познавательных амбиций Фауста и перемещение внимания зрителя на любовную линию доктора и Маргариты – все это весьма дискуссионно и может быть понято с разных позиций в зависимости оттого, поклонник вы фильма Сокурова или его противник. При всей амбициозности проекта Сокурова все же перед нами – не «Трудно быть Богом» Германа- отца и тем более не «Грех» Кончаловского, это все же авторское кино. Показать триумф человеческого духа над инфернальной силой самой косной материи, изобразить эту сомнительную победу без участия в ней Бога (именно так следует понимать финал) и было задачей Сокурова.
Плодотворность многолетнего диалога Сокурова и Арабова в «Фаусте», как не странно дает сбой: пути этих художников к тому времени уже разошлись из-за концептуальных споров, но вновь здесь сходятся, как оказалось, ненадолго. Грядущий фильм с непроизносимым заглавием, снимаемый в Албании, сулит их новую встречу, но вряд ли она будет удачной (как указывает Кинопоиск режиссерами будут уже они оба). В любом случае, «Фауст» – веха в истории нашего кино, хоть и снимался он полностью в Германии, с немецкими актерами и на немецком языке, то есть при всем глобализме этого проекта, это именно русский, богоискательский взгляд на проблему сделки с нечистым. И хотя даже любовь в нем подвергается анатомической вивисекции, аналитическая бесстрастность «Фауста» отнюдь не затмевает его визуальной культуры (какие в нем крупные планы лица Маргариты – настоящие живописные полотна!).
Потому, даже если вы въедливый зритель, любящий покопаться в недостатках кино, которое вас не цепляет, все же художественную и концептуальную ценность «Фауста» Сокурова (а также новаторство в плане интерпретации образа лукавого) нельзя игнорировать, тем более, чтобы заметить его просчеты, одного просмотра недостаточно, а это говорит если и не о шедевральности, то уж о талантливой режиссуре «без швов» это точно. «Фауст» Сокурова – это именно фильм о власти, но уже не человека, а лукавого над человеком, над его помыслами и страстями, именно поэтому большую часть экранного времени Фауст ходит по улицам в сопровождении Мефистофеля, как своей тени. На мой взгляд, финальная победа Фауста над лукавым – весьма сомнительна, хотя режиссеру и сценаристу хочется в нее верить.
Подводя итоги нашего обширного аналитического путешествия в недра сокуровской фильмографии, можно утверждать, что танатологическая тема – пусть и не основное, но весьма существенное ее измерение, эволюция ее запечатления на экране проходит у Сокурова путь от глубочайшего пессимизма, связанного с кризисом советского материалистического мировоззрения, к надежде и вере в возможности человека одухотворить жизнь вокруг себя. Главное, по мысли Сокурова, держаться подальше от власти и не заключать ради своих амбиций сделок со злом.