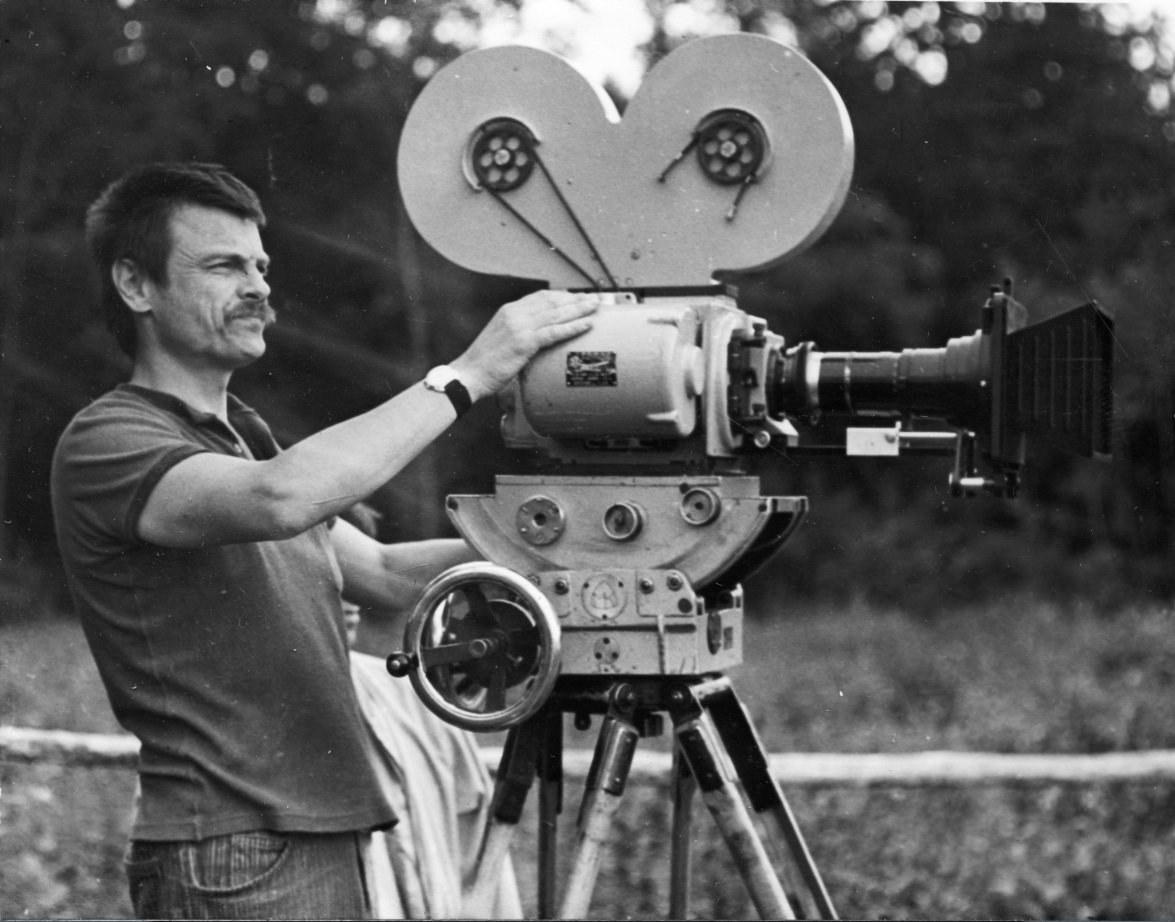
Кто-кто, а Андрей Арсеньевич Тарковский в представлении не нуждается: его имя и фильмы знают, как опытные синефилы, так и случайные зрители. Тем более важной надо считать любую попытку комплексного анализа его небольшой фильмографии, ставящей философские, религиозные и нравственные вопросы. Так случилось, что первый фильм режиссера «Иваново детство» почти не встретил сопротивления официозных кругов советской кинематографии, он был принят решительно всеми, а уж Михаил Ромм, учитель постановщика, так вообще был в восторге. Этот факт объясняется тем, что, смотря эту ленту спустя шестьдесят лет, поражаешься ее тонкому хождению по грани, разделяющей реализм от формализма, традиционный киноязык от новаторского.
Снимая ленту о Великой Отечественной, Тарковский создал произведение о власти греха над человеком, о той великой войне, которую ведет человечество против самого себя, восстав на Бога после грехопадения. Именно из-за такого широкого контекста постановщику и потребовались сны Ивана, снятые отлично от остального повествования: если во снах действие разворачивается днем (солнечным, поэтичным), то в реальности – почти всегда ночью или в темных, плохо освященных блиндажах (исключение составляет любовная линия Маши, придающая сюжету атмосферу рая на земле). Великая Отечественная показана как Война вообще, потому собственно немцы появляются в фильме лишь раз.
Зверства войны, изнасиловавшей детство не одного ребенка, – это ужасы греха богооставленного мира, лишь в любви люди хоть как-то соприкасаются с Божественной реальностью (оттого так прекрасна в своей скромности и целомудренной красоте Маша – Валентина Малявина, удивительная находка постановщика). Озлобленность ребенка, лишенного рая детства, блестяще передана еще подростком Бурляевым: он спорит с вышестоящими, даже офицерами, доказывая свою пригодность, не понимая, что сама реальность воюющего ребенка противоестественна. Рай, утверждает Тарковский, детство Ивана – вот подлинная реальность, не исковерканная грехом, мир в том виде, в котором сотворил его Бог. Потому так важна музыка Овчинникова, вернее постепенное нарастание в ней тревожности: вот-вот и рай будет утерян, вот-вот и детство оборвется.
Для более отчетливого выражения своей концепции и нужен Тарковскому последний сон Ивана, который уже непонятно кому снится: дети бегут к мрачному дереву, тень которого в итоге поглощает их, – подобным же образом еще счастливые Адам и Ева бежали к древу познания, вкушение плода от которого в итоге и лишило их рая. В фильме есть взрывы на фоне могильного креста, осколки фрески с изображением Богоматери, рассматривание Иваном альбома гравюр Дюрера (его внимание не случайно привлекает гравюра с четырьмя всадниками Апокалипсиса) – все это открыто указывает на христианские смыслы и религиозный подтекст фильма. Потому «Иваново детство» так и не понравилось автору рассказа Богомолову, впоследствии возвеличившего особистов в «Моменте истины»: текст изначально не был столь откровенно христианским.
Тарковский в своей дебютной полнометражной картине показывает несовместимость сердечной теплоты, любви, ласки, яркости жизни и ярости, ненависти, смерти, всего, что принесли в человеческое естество страсти и грех. Исковерканная душа Ивана, мечтающего лишь о мести, – страшный итог той самоубийственной войны, которую ведет человечество против Бога (Начала всякой любви) и самого себя. Потому так пронзителен в своей противоестественности эпизод «игр» Ивана с ножом в темноте: душа его разрывается от слез гнева, внутреннего опустошения, ненависти – всего того, что поселила в его душе война, реальность взрослого мира, лишившего его рая, детства. «Иваново детство» – удивительный фильм, о котором можно сказать все, что угодно, только не то, что он пессимистичен: режиссер верит и дарит надежду зрителю в то, что Божественная реальность, реальность любви, тепла, красоты вытеснит из души человеческой в конце концов дьявольскую реальность войны и ненависти, и человек наконец-то обретет тот рай, который он по своему своеволию когда-то потерял…
Вновь о вражде человечества против самого себя и обретения рая, но уже через талант, Богом данный, снимает Тарковский свою вторую картину «Андрей Рублев», тяжелое повествование об обретении себя через веру в Бога и человека. Многим зрителям, особенно нецерковным, фильм представляется эмоционально тяжелым и давящим, однако, все мытарства главного героя, его сомнения и споры с самим собой в итоге завершаются созерцанием его икон в цвете, хотя весь фильм черно-белый. Путь преподобного Андрея Рублева показан режиссером не через экранизацию его жития, это не агиографическая картина (многие сцены, например, сцена убийства ради защиты блаженной – смелое допущение сценаристов).
Однако, все терзания Рублева изображены Тарковским через прямую связь с творчеством Достоевского, как путь русской души от наивной веры через страдания к вере осознанной и проверенной испытаниями. Из Достоевского же взяты и душераздирающие монологи Кирилла в исполнении Лапикова (возможно, вообще лучшая его роль) – монаха-завистника, терзающего себя самокопанием. Надо иметь сильную веру, чтобы видя падение человеческое (в том числе и собственное) пропеть Богу осанну. У героя Солоницына это получается, как и у самого Тарковского. Солженицын когда-то в своей статье на этот фильм обвинил постановщика в том, что тот снял неисторический фильм, события которого без проблем калькируются на современность.
Подобный взгляд из современности, когда страшно оттого, что «в храме идет снег», современности разорившей веру на Руси, современности новых татар – большевиков, современности междоусобной брани, этот взгляд в фильме есть, но это и его преимущество перед многими историческими картинами, отказавшимися проводить рискованные параллели. Тогдашний композитор Тарковского Овчинников с любовью и трепетом передал христианские песнопения, встроив их в музыкальную ткань фильма. В картине также обильно цитируется и Священное Писание не только опосредованно в разговорах, но и напрямую читается персонажами (чего стоит один знаменитый монолог Рублева, читающего фрагмент о любви Второго Послания к Коринфянам апостола Павла).
Рублев через страдания и потерю веры в себя и человека в итоге вновь обретает веру в людей и свой талант, для этого ему нужно в фильме пережить страшную реальность разорения города и церкви, страшное падение человеческое и вакханалию демонов, попирающих святыни и мучающих людей (мощнейшая роль Никулина в эпизоде). Еще страшнее выглядит эпизод примирения братьев-князей в храме, целования креста – это показано параллельно с тем, что случится потом… Глядя на все это, трудно не потерять веру, однако, Тарковский ведет зрителя через созерцание страшной мерзости человеческой к высотам духа – смирению, любви и внутренней тишине. Уже умудренный годами добровольного молчания, Рублев в исполнении Солоницына тихо взирает на людей: он уже понял, что от них не надо ждать ничего хорошего.
И вдруг появляется Бориска (в как всегда темпераментном исполнении Бурляева), и Рублев в итоге через утешение его вновь обретает дар речи, а вместе с тем и дар письма, и дар любви. Все потому, что в этом подростке, всего себя отдающего общему делу до полного самозабвения он узнает самого себя раннего, еще наивного и доверчивого, в чем-то даже озлобленного. Однако, опыт разделяет Рублева и Бориску, и помощь, которая так нужна последнему, в итоге изливается из сердца Рублева. В этот момент тотального обретения себя, признания себя таким, каков ты есть перед Богом и людьми, в этот момент повествование и обрывается, завершаясь долгим, почти десятиминутным созерцанием икон Рублева. То есть завершается фильм в наивысший момент духовного пути Рублева, когда уже он сам сдается (вернее сдается не он, а его гордыня), смиряется перед Богом, принимая мир и себя такими, каковы они есть во всей их мерзости. Признав, однако, что для человека в этом мире возможны и величайшие духовные достижения, только если он отвергнется себя, возьмет крест свой и последует за Христом.
В 2019 году «Солярис» снова в прокате, за год до этого прошли «Зеркало», «Сталкер» и «Жертвоприношение», ждем других фильмов мастера на большом экране. В Воронеже лишь три сеанса в течение трех дней в одном кинотеатре. Лучше, чем ничего, но зал был полный, зрители смотрели, затаив дыхание, не разговаривая, не хрустя попкорном и почти не уходя (вышли во время сеанса только три зрителя). Однако, как бы я раньше не любил этот фильм, смотря его в третий раз и первый раз на большом экране, свыкся с мыслью, что многое в нем устарело. Если убрать фантастический фон, космический антураж, который сейчас смотрится как-то провинциально-совково (особенно в сравнении с неустаревающей «Космической одиссеей»), то получится добротная экзистенциальная драма, спор эмоционального и рационального восприятия мира, критика рационализма и материализма с позиций человеческого сердца.
Что и сейчас смотрится свежо в этой картине – так это пейзажи, удивительная съемка нашей планеты, красота природы и несомненный религиозный аспект картины. «Солярис» – один из самых дихотомически выверенных фильмов Тарковского: противопоставление такой родной, такой теплой Земли и бесприютного, отчужденного космоса, агностицизм Лема и критика Тарковским научного стремления познать Вселенную. Как говорит один из героев, Снаут: «Человеку нужен человек», а не тайны космических пространств. Будучи скован требованиями атеистической цензуры, Тарковский был вынужден говорить о Боге косвенно, прибегая к помощи фантастических сюжетов, но даже и так получалось у него это мощно и несоветски.
Споря с ницшеанской концепцией фильма Кубрика, Тарковский защищает ценности христианства от научных амбиций по познанию непознаваемого. Если Лем рационально и научно ставил вопрос о границах познания, то Тарковский идет дальше, решая проблему радикальнее: космос вообще не надо познавать, гораздо важнее для человека его планета и он сам, чем тайны мироздания. Эта концепция развита в фильме достаточно очевидно для того, чтобы о ней долго говорить, скажу лишь еще одно: Сарториус воплощает позицию антигероя для Тарковского, это сциентист-технократ, готовый, как и Профессор в «Сталкере», уничтожить все во имя научной истины.
Несмотря на то, что почти три часа в фильме ничего не происходит, действие большую часть экранного времени замыкается на станции Солярис в кругу четырех персонажей, несмотря на то, что картину тяжело смотреть чисто физически, в ней есть магия чистого кино, которая постоянно тяготеет к гипнозу. Чисто пиктографическая стихия «Соляриса» (это и картины Брейгеля, и пейзажи, и долгие планы Мыслящего Океана) ясно говорит о том, что стиль режиссера ведет свое происхождение не от литературы с ее четкой драматургией, а от живописи. Его метафоры здесь предельно чувственны, осязаемы (как, например, мытье грязной руки Кельвина его матерью во сне – мост к симметрии жены и матери в «Зеркале», христиански очищающий смысл воды), они не имеют ничего общего с сухими, головными притчевыми образами его поздних картин.
Конечно, «Солярис» – это тоже притча, притча о совести, о хайдеггеровском «зове бытия», о голосе Бога в человеке, который ведет его к нравственному перерождению, потому «Солярис» оптимистичнее «Сталкера», где поход в потустороннее кончился ничем. Потому помимо блестящих работ всех актеров (особенно Натальи Бондарчук, которой выпала трудная задача, почти в духе «Бегущего по лезвию» сыграть нечеловека, способного любить и становящегося человеком), стоит особо отметить труд Баниониса, которому удалось показать мощные экзистенциальные перемены внутри человеческого характера. Какой Крис в начале, не видящий красоты мира, сам в себе, отрезанный от всех! И какой он в финале, способный любить и понимать Другого!
Если суммировать наши рассуждения, то можно сказать, что «Солярис» – фильм об иных, более совершенных, чем разум способах познания мира и себя, о сердце как органе познания, о любви, как способе примирения с миром, Богом и совестью, о недостаточности научного познания тайн мироздания, о ненужности этого типа познания там, где мы сталкиваемся с иррациональным, о необходимости оставаться дома, на Земле и не бежать за его пределы во имя миражей научной истины и о многом другом. И то, что в финале блудное человечество возвращается к своему метафизическому Отцу, это пиктографическая цитата из Рембрандта, известная всем и долгий, удаляющийся план Земли как острова в Мыслящем Океане, лишний раз доказывает, что мы, люди, так и не вняли предупреждениям режиссера, продолжая ломиться туда, где нас никто не ждет, кроме космических ветров пустоты.
Как бы не устарел «Солярис» технически, как бы не было тяжело и даже нудно порой его смотреть, – это все же великий фильм, пример высококлассного духовного кино, ставящего нравственные и религиозные проблемы. Действительно, Антон Долин прав, когда говорит, что Тарковский важен для нашего кино также, как Пушкин для русской литературы. Но скорее, не как Пушкин, а как Достоевский. Этого мощного аналитика экзистенциальных бездн человечества уже тридцать лет нет с нами, а фильмы его по-прежнему повторно выходят в прокат и собирают полные залы. Это ли не бессмертие и не доказательство богоподобия его таланта?!
Майя Туровская в своей книге о Тарковском назвала главу о «Зеркале» «Пейзаж души после исповеди», что не удивительно, учитывая искренность и откровенность этой картины. Действительно, режиссер следует в своей ленте христианскому представлению об исповеди как Таинстве: в «Зеркале» есть самообличительная беспощадность, претензии предъявляемые рассказчиком, прежде всего к самому себе, а не к людям (важно, что рассказчик, говорящий голосом Смоктуновского, не отражается в зеркале и лица его мы так и не увидим, лишь тело, когда он болеет, ведь весь фильм – это его лицо). Попытка серьезно высказаться о своей личности, своих проблемах с близкими и родными, исповедать свои грехи и слабости, покаяться в них – вот цель «Зеркала». Безусловно, что центральным персонажем картины является мать рассказчика, а не он сам (режиссер тем самым хочет избежать эгоцентризма и зацикленности на самом себе).
История отношений отца и матери рассказчика повторяется через много лет в его собственных отношениях с бывшей женой (не зря мать и бывшую супругу рассказчика играет одна и та же актриса – Маргарита Терехова): рассказчик так же, как и его отец, уходит от семьи с ребенком. Тарковский беспощаден к самому себе: мы видим, как юлит и оправдывается его автобиографический герой в отношениях с матерью и женой, как тяжело ему смирить перед ними – в общем-то простыми людьми свою гордыню творческого человека. Также как когда-то было тяжело его отцу-поэту. Исполнитель роли отца говорит голосом Арсения Тарковского, более того сама мать режиссера неоднократно появляется в кадре, симметрически отражая героиню Тереховой.
Где в «Зеркале» факты, где художественное допущение, сказать трудно, тем более сегодня, после превращения самого Тарковского и его фильмов в миф. Однако, для христианского зрителя этот фильм – пример вдохновенного искусства, трезво анатомирующего душу художника. Здесь воспоминания переплетаются с реальностью так тесно, что трудно отличить одно от другого, здесь стихии огня, воды и воздуха образуют пронзительную симфонию красоты Божьего мира. Здесь камера Георгия Рерберга совершает сложнейшие движения по прихотливейшим траекториям, однако, структура «Зеркало» строится прежде всего на монтаже. Трудно найти другой такой фильм в истории кино, в котором сочетание эпизодов было бы столь нелинейным и ассоциативным, в повествование выстраивалось бы не на сюжете, а на монтажной последовательности эпизодов.
Многие исследователи говорили о христианском смысле символики воды в творчестве Тарковского – это воды Крещения, очищающие от всякого греха, также и огонь – не угроза уюту, дому и человеку, а нечто согревающее – намек на Божественную благодать, огнем которой очищаются верные и попаляются внешние. Зеркал в картине множество, но исключительный, мистический смысл имеет сцена, когда Алексей смотрит на себя в зеркало, когда мать приходит продавать серьги: здесь в кадре, в рамке зеркала герой видит себя неожиданно изменившимся, видит себя подлинным, видит суть вещей (что получилось благодаря изменению освещения при съемке). «Зеркало» – действительно некое самообличение, исповедь без скидок себе, видение себя в этом кинозеркале таким, каков ты есть, без всякого снисхождения.
Известно, что Тарковский был очень сложным в общении и отношениях с другими людьми человеком, однако, он не питал иллюзий в адрес себя и не оправдывался, «Зеркало» – яркое свидетельство этому, мужественный акт не самобичевания в духе героев Достоевского, не сеанс душевного стриптиза, а попытка увидеть в проблемах своей жизни виноватым не других людей, а прежде всего самого себя. И пусть рассказчик «Зеркала» понимает, какое огромное значение произвело на его жизнь детство и уход отца, он все равно не оправдывает себя, продолжая глубоко уважать отца, чьи стихи звучат в кадре (и, Боже, что это за стихи, как они прекрасны сами по себе!), и мать, вынужденную в одиночку воспитывать двоих детей в предвоенные, военные и послевоенные годы. По этой причине «Зеркало» – это еще и дань благодарности родителям и вместе с тем попытка проникнуть в мистику, таинство детства, интуитивно понять ее генерирующую личность силу.
«Зеркало» – действительно удивительная картина, в которой есть все и содержательном плане, и в формальном, однако, не правы те, кто ценит ее, прежде всего за техническую сложность. Ведь простота авторского замысла бросается в глаза – режиссером двигало прежде всего попытка углубления в тайники своей личности, попытка увидеть в себе весь мир, как в капле океан (для этого нужны, видимо, кадры исторической хроники Второй Мировой, войны в Испании и даже «культурной революции» в Китае). Тарковский пытается увидеть свою собственную судьбу в контексте большой Истории, однако, для него частное, личное, интимное несоизмеримо важнее и ценнее любых внешних катаклизмов (потому хронике уделены минуты, а собственному детству больше половины экранного времени). Ведь на самом деле, несмотря на всю сложность монтажной структуры, всю прихотливость повествования, петляющего в воспоминаниях и снах, «Зеркало» очень просто по своему посланию – это попытка увидеть себя без искажений самооправдания в чистой капле крещенской воды, очищающей от всякого греха и являющего каждую слабость человека такой, какова она есть.
Писать о «Сталкере» боязно даже опытному синефилу: слишком высока вершина, слишком велики нравственные и философские требования, предъявляемые Тарковским к зрителю. В околокинематографичсекой среде бытуют два положительных мнения о фильме: «Я ничего не понял, но мне понравилось» и «Для русского кинематографа «Сталкер» имеет то же значение, что и «Евгений Онегин» для русской литературы» (мнение Антона Долина). Мы уж не берем в расчет множество отрицательных мнений, которыми пестрит Рунет, большинство из которых зиждется на том, что «Сталкер» – сугубо элитарное кино, непонятное массам. Для режиссера эта картина стала началом своеобразной апокалиптической трилогии о судьбах мира на грани катастрофы (ведь в той или иной степени и «Ностальгия», и «Жертвоприношение» разрабатывают ту же тему, но с других ракурсов).
Тарковский намеренно утяжелил восприятие ленты тем, что при сугубой камерности (большую часть повествования в нем участвуют лишь три героя) у нее почти трехчасовой формат, а смотреть на то, как три человека гуляют по некой Зоне, философски при этом изъясняясь, действительно трудно. Однако, в отличие от «Соляриса», в котором космическая атрибутика с годами сильно устарела, в «Сталкере» фактура Зоны снята чрезвычайно убедительно (вводные же и завершающие эпизоды сняты в черно-белой гамме). Остается лишь гадать, где постановщику удалось найти такие чрезвычайно выразительные места, изображающие жизнь после экологической катастрофы. Один мой школьный учитель, не принявший фильм, назвал его «поэзией мусорной свалки», и действительно пророченная Христом в Евангелии «мерзость запустения» выражена в этом апокалиптическом фильме очень хорошо.
В знаменитом проезде камеры над поверхностью воды, в котором мы видим наряду с иконой разнообразный мусор (включая шприцы), звучит фрагмент из Откровения Иоанна Богослова, в другом фрагменте Сталкер на память вспоминает евангельский эпизод о встрече воскресшего Христа с учениками в Эммаусе – все это и многое другое наряду с откровенными символами вроде Писателя в терновом венце говорит об отчетливой религиозной составляющей фильма. В атеистическое время Тарковский говорил со зрителем о вере, но притчевым образом, как о вере не в Бога, а в комнату, где исполняются желания (по сути, эта комната – аллегория Храма с большой буквы). Зона же здесь – это некое мистическое измерение мира, жизни и самого человеческого сознания, от которого люди отгородились и которое больше не хотят знать.
Герои не случайно не имеют имен, а названы по своим профессиям, своим призваниям: Сталкер, Писатель, Профессор, воплощающие собой три понимания жизни – религиозное, эстетическое и научное. Ближе к финалу окажется, что главную опасность для веры в чудо представляет собой именно научное мировоззрение, мечтающее эту веру уничтожить. Писатель же – циник, разуверившийся в людях, олицетворяет собой экзистенциалистский иррационализм, подчеркнуто нерелигиозный. Сам же Сталкер в душераздирающем исполнении Кайдановского, ставшего главным актерским событием его жизни, – это фактически священник или просто мистик, все еще верящий в людей, хотя они его постоянно предают, юродивый, блаженный, «смертник», как называет его жена.
Отношения с женой у Сталкера тоже непростые, о чем свидетельствуют вводный и завершающий эпизоды: жена то проклинает его, то заботится о нем, говоря, что ни о чем не жалеет. Как и большинство людей, отдающих свою жизнь другим, Сталкер фактически забывает о самых ближайших своих родственниках: жене и дочери (дочь же его – самый загадочный персонаж картины, смысл экстрасенсорных способностей которой я не берусь понять: эта загадка, которая выше моих аналитических способностей). «Сталкер» – безусловно, вершина гения Тарковского, главная лента в его фильмографии, картина о смысле и необходимости веры в чудо в самых неблагоприятных для этого условиях, в атмосфере всеобщей безнадеги и безверия. Аллегория поиска Бога и Его храма, где исполняются самые сокровенные желания, стала для зрителей Тарковского в конце 1970-х подлинным откровением в затхлом воздухе «застоя».
Сейчас спустя почти сорок лет «Сталкер» не выглядит в отличие от «Соляриса» технически устаревшим и смотрится свежо, диалоги о смысле жизни, мире, людях, пронзительные монологи Сталкера и Писателя, как нож в масло, входят в зрительское сознание и остаются там навсегда. Это не просто кино высокого класса, которое вопреки всем формальным причинам смотрится в один присест, но еще и серьезная беседа режиссера со зрителем о самых сущностных вопросах человеческого бытия. Тема мистического, духовного измерения жизни вторгается в фильм постепенно, как блестящие музыкальные темы Артемьева, которые в ленте органичны, как никогда. «Сталкер» – вневременное кино, вышедшее вовремя и ставшее культовым, но и на всякий час оно актуально, пока будет жить человек, пока он будет искать Бога и верить в чудо вопреки всему.
Несмотря на некоторые выразительные символы (финальное несение свечи сквозь воду, завершающий общий план, визуально объединяющий русскую и европейскую культуры, пламенная речь Доменико) спустя годы «Ностальгия» больше разочаровывает, чем окрыляет. Это, конечно, мое частное мнение, но, кажется, что эта картина Тарковского лишена концептуального нерва, отличающего все прошедшие ленты мастера. Преодоление тоски по родине через обретение понимания, что русская культура включена в европейскую, общее ощущение единства их христианских корней выглядят скорее умозрительными идеями, чем художественно подтвержденными фактами. Даже в плане выразительности актерской игры широко не известная в кинематографических кругах Домициана Джордано оставляет далеко позади не только Юзефсона, но и самого Янковского (это не «Крейцерова соната» Швейцера, раскрыться в узкой для него роли Горчакова Янковскому очень тяжело).
Как всегда Тарковский делает ставку на визуальность в гораздо большей степени, чем на человеческую психологию или реализм: сценарий, написанный в соавторстве с Гуэрра, будто впитывает все поэтику «некоммуникабельности», которую великий итальянец формировал долгие годы вместе с Антониони. Однако, перед нами не «Рублев» и не «Сталкер», элементы кинематографической эстетики здесь разобщены и не образуют фирменной гармонии стиля Тарковского: здесь режиссер на чужой земле, ему не из чего питаться, кроме христианской символики, пребывающей по ту сторону «железного занавеса» в том же запустении, что и по эту сторону. Именно апокалиптическая поэтика доминирует в «Ностальгии»: последние времена настанут, когда святыни окажутся невостребованными и будут пребывать в запустении, и государственный атеизм в этом смысле – вовсе не причина этого забвения святынь.
Когда-то Марсель Пруст написал эссе с кричащим названием «Памяти убитых церквей», которое могло бы послужить заглавием к последним трем фильмам Тарковского. С течением времени, эволюционируя от «Иванова детства» к «Ностальгии», стиль Тарковского стал суше и декларативнее, все более тяготея к притчевой образности. Однако, а отличие от шедевральности «Сталкера» художественное своеобразие «Ностальгии» не столь очевидно: да, теперь, уехав в Европу, постановщик снимает горькое кино об утрате ею христианских корней, о том, что христианство стало уделом безумцев-одиночек вроде Доменико, вещающих о скором конце света. С «Жертвоприношением» «Ностальгию» объединяет не шаблонно раскрытая тема безумия: сама культура, говорит Тарковский, сошла с ума, лишь прикидываясь нормальной, а безумцы-одиночки – пророки, со своей обостренно понятой духовностью, на самом деле нормальны, ибо живут жизнью души, а не тела, в то время, как западная цивилизация «заплыла телом».
Буквально в первой сцене «Ностальгии» (в церкви) проводится параллель с основной идеей «Сталкера»: храм здесь прямо назван местом, где исполняются желания. Однако, Тарковский вынужден все равно вести свой разговор о Боге и вере закамуфлировано, прячась от советской цензуры (ведь этот фильм в отличие от распространенного мнения создавался еще не в эмиграции, а в копродукции Италии и СССР). В «Ностальгии» как-то все слишком названо и очевидно – это проблема любой притчи, однако, в «Сталкере» выдающиеся актерские работы Солоницына и Кайдановского придавали абстрактному сюжету объем и правдивость, наполняя его жизненной конкретикой. В «Ностальгии» этого нет: Янковский вынужден большую часть экранного времени молчать и курить, даже его глаза, пластика и мимика не выражают и десятой доли того, что он сделает спустя годы в «Крейцеровой сонате» Швейцера.
Конечно, после первого просмотра «Ностальгия» способна вдохновить на критические дифирамбы, но после последовательного пересмотра всех предшествующих пяти полнометражных лент Тарковского, она вызывает скорее недоумение своей кажущейся простотой, за которой не проглядывают иные, подразумеваемые смыслы. Скажем жестче: смотря «Ностальгию», не о чем подумать, здесь все продумано за нас, показано и названо. Финальная же панорама кажется всего лишь автоцитатой завершения «Соляриса»: как там Земля выглядела частью неизведанного, таинственного космоса, так и здесь русская культура кажется частью европейской. По-новому понятая режиссером библейская история Авраама в «Жертвоприношении», честное слово кажется мне более глубоким концептуальным высказыванием, чем то, что выражено в «Ностальгии», но об этом скажем позднее.
Однако, прежде чем погрузиться в анализ «Жертвоприношения», отмотаем время назад и вернемся в начало режиссерской карьеры Тарковского – время работы над короткометражками «Убийцы», «Сегодня увольнения не будет» и «Каток и скрипка». Первая из них длится всего двадцать минут, но за это время перед нами разворачивается почти хичкоковская по психологическому напряжению история, не уступающая в мастерстве и Сиодмаку с его экранизацией хемингуэйевских «Убийц». Правда, Сиодмак допустил некоторую художественную вольность, растянув адаптацию маленькой новеллы до полуторачасового фильма, рассказав нам историю шведа Андерссона, предшествующую повествованию. В результате этой вольности у Сиодмака получился хороший нуар, Тарковский же и его сорежиссеры следуют тексту почти буквально, также как и Хемингуэй, работая с подразумеваемым колоссальным подтекстом.
В результате почти посекундной просчитанности сценария у них получается чрезвычайно психологически напряженное кино о неких событиях, которые мы не видим, но которые постоянно подразумеваются, по этой причине получается невероятное сюжетное напряжение. Рассказ Хемингуэя очень кинематографичен, и Тарковский с его сорежиссерами это хорошо понимают, потому внутрикадровый монтаж здесь преобладает над межкадровым. Можно, конечно, сказать, что «Убийцы» – это еще не Тарковский, здесь нет примет его стиля, но зато присутствует постоянно ощущаемая зрителем огромная работа над литературным материалом. Главных ролей здесь нет, все эпизодические, оттого важно появление самого Тарковского в кадре, насвистывающего замысловатую песенку, – это, безусловно, кульминация всей картины.
Одним словом, «Убийцы» – хорошо ощущаемое сразу с первых кадров начало большого пути серьезного художника, выбравшего себя для дебюта невероятно сложный рассказ. Это изображение десяти процентов при девяноста подразумеваемых – то, что станет принципом Тарковского-художника, впоследствии привыкшего работать с многозначной символикой, грандиозными по своему объему смыслами, упрятанными в подтекст. Пусть это и не совсем его самостоятельная работа, однако, режиссерское доминирование Андрея Арсеньевича заметно и в «Убийцах» – это вопиюще несоветское кино, эстетически несовместимое с соцреализмом.
Следующая курсовая работа Андрея Тарковского «Сегодня увольнения не будет», снятая в копродукции с телевидением, – вполне себе советский фильм, однако, лишь в содержательном, но не в формальном плане. Что же касается структуры, то как и в «Убийцах», Тарковский с Гордоном наследуют художественным традициям Хичкока и не в последнюю очередь Анри-Жоржа Клузо. О связи данной ленты с «Платой за страх» писали многие, в то же время мало кто отметил, что у Клузо между героями не было идейного единства, они – не единомышленники, как персонажи Гордона и Тарковского. Солдаты и офицеры из «Сегодня увольнения не будет», взявшиеся разминировать залежи немецкой взрывчатки, – Герои с большой буквы, но пафос постановщикам можно простить: ведь как еще снимать кино на такую тему?!
Борисов, Куравлев, Любшин играют здесь одни из своих первых ролей, однако, слаженность не только их работы, но и всего актерского ансамбля вкупе в профессиональной режиссурой и острым монтажом обеспечили этой картине эстетическую значимость и спустя годы. Это сугубо советское кино, но кино высокого класса не только в художественном, но в нравственном отношении: редко когда увидишь советский фильм, в котором воспевание лучших черт человеческого характера не выглядело бы лицемерным и фальшивым. В данном случае у Тарковского и Гордона получилось очень искреннее, хоть и пафосное кино, прославляющее героизм и мужество простых людей. Однако, лишь в третьей короткометражной своей картине, ставшей его дипломной работой, Тарковский смог добиться эстетической самостоятельности, заявить о себе, как самобытный художник, уже полностью независимый от художественных влияний Хичкока и Клузо. Ей стала лента «Каток и скрипка».
Дипломная работа Андрея Тарковского настолько исполнена света, солнца, радости, что впору вспомнить «Красный шар» Ламорисса – без сомнения, источник вдохновения для этой волшебной картины. Сны Ивана из «Иванова детства», безусловно, берут свое начало отсюда: детское, райское, незамутненное грехом восприятие мира в «Катке и скрипке» еще не вступает в конфликт со взрослым миром, пытаясь с ним подружиться. Даже мелкая шпана – источник постоянных неприятностей для юного скрипача Саши, показана здесь не как всецело отрицательный образ. Можно даже рискнуть сказать, что «Каток и скрипка» – пример бесконфликтного искусства, здесь нет острых житейских коллизий, столкновения интересов, борьбы самолюбий.
Простая, бесхитростная дружба молодого рабочего и ребенка-скрипача показана Тарковским во всеоружии художественных средств, призванных опоэтизировать изображаемое: здесь символизм еще лишен болезненных черт «Иванова детства», детское восприятие и открытие ребенком мира, бесконечных горизонтов собственных возможностей переданы с невероятным для этого постановщика оптимизмом и верой в людей и будущее. Постарайтесь после «Катка и скрипки» засесть за «Жертвоприношение» – пред вами разверзнется подлинная бездна, долгая эволюция творческого духа от радостного детского жизнеутверждения до апокалиптического пессимизма и разочарования в людях. Однако, именно таким путем мы решили идти в нашем анализе, немного приободрив себя просмотром ранних короткометражек Тарковского.
Что и говорить «Каток и скрипка» – хоть и первая работа мастера, но, в то же время одна из вершин его творчества, это столь волшебное кино, что в сравнении с ним многие поздние работы Тарковского кажутся беспросветным мраком, в который мы и не замедлим погрузиться, пересматривая «Жертвоприношение» – коду, финал фильмографии великого русского режиссера, которую многие зрители ошибочно считают его худшей лентой.
Последний фильм Тарковского обычно принято ругать, за что, это уже решают критики, однако, «Жертвоприношение» – не просто дань памяти бергмановскому типу кинематографа, с которым советский постановщик никогда до этого так тесно не взаимодействовал, но чрезвычайно сложно устроенное кино, сложное даже для Тарковского, именно этим, быть может, объясняется его непопулярность среди синефилов. История об Аврааме последних дней, решившемся пойти на безумный, абсурдный поступок, чтобы спасти человечество, рассказана режиссером амбивалентно, то есть, стирая тонкую границу между верой и безумием. Что же все-таки произошло с Александром? Сошел ли он с ума, приснилось ли ему его «жертвоприношение» вместе с концом света? Или он совершил подвиг, поправ законы логики и здравого смысла во имя других людей? Ответов на эти вопросы мы так и не получим, и это хорошо, иначе лента получилась бы прямой аллегорической калькой с ветхозаветного сюжета.
В «Жертвоприношении» много, как и в фильмах Бергмана, душераздирающих монологов-самокопаний, этим данная лента и отличается от других картин Тарковского, выбиравшего всегда визуальность в ущерб психологизму. Здесь же соблюден баланс структурных элементов фильма, и это еще одна из причин, почему перед нами – вовсе не худшая лента мастера. Создавая многие свои картины в эпоху, когда была в моде парапсихология, а духовность понималась, как нечто синкретичное, Тарковский и здесь создает противоречивый сюжет о возможности спасения мира от последствий ядерной войны, сюжет, максимально далекий от христианской онтологии, хотя в нем и мерцают ветхозаветные мотивы. «Жертвоприношение», как и «Ностальгия», – о конфликте грубого материализма и эклектично понятой духовности, последний днях мира, погибающего вследствие маргинализации духовности в человеке.
По этой причине Александр с его монологами о тупике цивилизации в начале фильма так похож на Доменико из «Ностальгии», потому сила огня в этих двух картинах, стихия пламени будет играть в них доминирующую роль, как сила очищения всего доброго и проклятия всего злого. Много сказано критиками о значении стихии воды в фильмах Тарковского, как воды Крещения, очищающей от греха, для этого режиссеру нужны все эти бесконечные дожди, идущие в его фильмах. Но гораздо меньше написано о стихии огня в его двух последних лентах: здесь пламя духовности, яростной веры, выжигает человека без остатка, превращая его в факел, светящий остальным (как в случае Доменико), в то же время этот огонь уничтожает ветхий мир в конце времен, это огонь Божественной благодати, зажженный Александром, разрушает его дом – по сути, весь старый мир.
Такое значение имеет стихия огня в двух последних фильмах Тарковского, не всегда вписываясь в каноническое понимание Бога и человека, принятое христианством, но советский постановщик, одним из первых заговоривших открыто в нашем кино о Боге и вере (в частности он возопил к зрителю и цензорам словами Сталкера: «Что дурного в молитве?!»), никогда не был чисто христианским художником (когда-то он хотел даже экранизировать Кастанеду и Гессе), он нес весь груз ошибок и заблуждений советского верующего интеллигента. По этой причине и «Жертвоприношение» своим основным сюжетом и пафосом вызывает недоумение у христианского зрителя, это выдающееся кино большого художника, финал его жизненного и творческого пути, его личное понимание жертвенного подвига веры. Александра, не вынесший груза своего действия, в итоге увозят в место скорби, но семена веры, посеянные им в душу его сына, все же взойдут: ребенок заговорит и сразу цитатами из Евангелия.
Именно постепенный путь веры, медленное движение шаг за шагом надо выбирать перед любыми необдуманными, пусть и кажущимися святыми, но опрометчивыми действиями: Александр сделал, вероятно, неправильный выбор, доведший его до безумия, но зато его сын пошел верным путем. Жертва, которую приносит Александр, быть может, не так очевидна, – это не то, что мы думаем, а жертва во имя сына, его отеческое воспитание. Вот его настоящая жертва, а вовсе не связь с Марией, возможно, именно это хочет сказать своим фильмом Тарковский, не случайно посвятивший его будучи смертельно больным своему сыну.
Годы спустя сын посвятит отцу документальный фильм «Андрей Тарковский. Кино как молитва». Редко, когда увидишь документальное кино такой поэтической силы, такое глубокое проникновение в суть творчества великого человека. Здесь восхищает все: монтаж, сочетающий редкие съемки их архива мастера, семейные фотографии, стихи Арсения Тарковского, читаемые автором, голос самого Андрея Арсеньевича, философствующего на самые разные темы. «Андрей Тарковский. Кино как молитва» – фильм сына мэтра, очень тонко и конгениально творчеству отца понимающего его художественную вселенную, потому его можно назвать ключом к вселенной Тарковского.
Здесь все на своем месте: детство и опыт создания всех семи великих фильмов, размышление мэтра о Боге, мире, человеке, показывающие, как глубок был этот киногений, как утонченно духовен, интеллигентен, сколь было много в его сознании, уме, чувствах устремленности к Высшему. Название этого документального фильма – не просто громкие слова, но кредо Андрея Арсеньевича, ведь молитва к Создателю в его понимании – это призыв к гармонии, чистоте, высоте чувств и мыслей, очищенных онтологическим вопрошанием. В фильме Андрея Тарковского-младшего нет скучных биографических фактов, которые и так все знают, зато есть размышления мэтра обо всем на свете, глубокое и, главное, понимающее погружение в его внутренний мир.
Рискну сказать, что этот документальный фильм не уступает по силе художественного воздействия картинам самого мэтра, столь он органичен им визуально, эстетически, концептуально. О творчестве Андрея Тарковского написаны по крайней мере три невероятно талантливые книги: Майи Туровской, Симонетты Сильвестрони и Игоря Евлампиева, и все они не противоречат друг другу, осмысливая его фильмы на разных уровнях – киноведческом, религиоведческом, философском, сходясь в одном, что получает подтверждение в фильме Андрея Тарковского-младшего: все фильмы мэтра образуют удивительно цельное высказывание о поисках гармонии с миром и Богом, отрицании и неприятии зла, лжи и насилия.
Высочайшая планка духовности, возвышенности мыслей и чувств, задаваемых кинематографом Тарковского, так и не превзойденные никем из его коллег (даже обожаемыми им Берманом и Брессоном), – это своего вызов современному зрителю, не воспринимающему кино как молитву и погрязшему в плотском, комфортном и материальном. Удивительно, что в фильме сына мы видим не просто решение проблемы интерпретации творчества отца, но интуитивное понимание и проникновение в сознание последнего. В данном документальном фильме мы видим преемственность творчества Андрея Арсеньевича поэзии отца, которая постоянно звучит в этом фильме, мы понимаем, что эстафета понимания мира переходит от Арсения к Андрею и Андрею-младшему.
Есть полное ощущение, что фильм «Андрей Тарковский. Кино как молитва» снимал сам Тарковский, столь ритмически, пластически, концептуально он ему органичен, это говорит о том, что, воспитывая сына, Андрей Арсеньевич передал ему самое главное – свое уникальное восприятие бытия, потому кадры из «Андрея Рублева», «Соляриса», «Зеркала» и других его фильмов намертво вплетены в ткань этого документального фильма, нет никакого противоречия между ними и семейными фотографиями, архивными съемками, размышлениями мэтра, его лекциями и стихами Арсения Тарковского – все это единое целое.
Но для того чтобы критически разобрать творчество мэтра на уровне аналитическом, философском, киноведческом одного этого документального фильма недостаточно, нужен взгляд изнутри аналитической стороны ума. Потому документальный фильм Андрея Тарковского-младшего выполняет визуально-художественную задачу, ничего не расшифровывая и не объясняя аналитически, это сделали уже книги Туровской, Сильвестронни и Евлампиева, а также всех тех, кто не боится подступиться к фильмам мэтра с позиции не чувств, а ума, одухотворенного сердцем.

