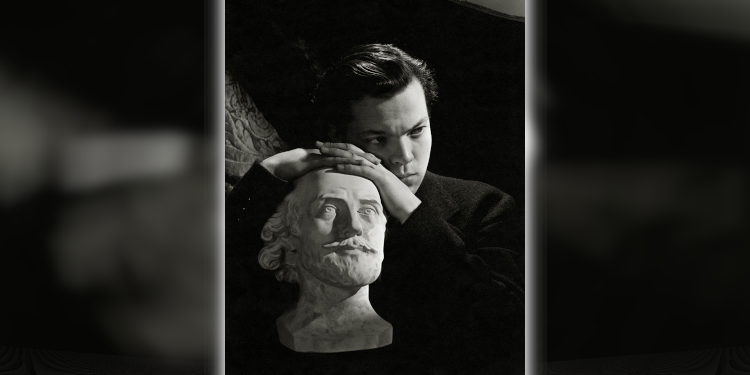
Что мы знаем об Орсоне Уэллсе, помимо того, что он – режиссер-вундеркинд, снявший до тридцати «Гражданина Кейна»? Мы попытались ответить на этот вопрос, разбирая большинство его картин за исключением дебютного шедевра Уэллса к анализу которого профессионалами уже трудно что-то добавить.
«Великолепные Эмберсоны» – единственная картина Уэллса, в которой он не исполняет ни главной роли, ни эпизодической, отчего актерский ансамбль серьезно страдает. Фильм ощутимо распадается на две половины: первая обрушивает на зрителя калейдоскоп деталей и второстепенных персонажей в перекрестье многословных реплик и обильных диалогов, вторая сконцентрирована на конфликте молодого Эмберсона и любящего ее мать друга семьи Юджина, потому драматическое напряжение, распыленное в первой части ленты, сходится как в фокусе во второй.
Но уже в первой половине Уэллс погружает зрителя в хитросплетения технических приемов, среди которых: острый монтаж крупных планов, делающий достаточно бессюжетное повествование экспрессивным в раскрытии характеров и описании комических ситуаций, глубинная многоуровневая мизансцена, мастерское оперирование перспективой в кадре, помогающее действию разворачиваться сразу и на переднем, и на заднем планах, сложная траекторная съемка, расширяющая пространство и придающее ему объем, делающее персонажей будто перемещающимися сквозь время. Последний прием (пространственная репрезентация темпоральности и отказ от флешбеков), впервые использованный Уэллсом еще в «Гражданине Кейне», станет достаточно распространенным в лентах Алена Рене.
Отсутствие Уэллса-актера повлекло за собой исчезновение эмоционального центра в ансамблевой игре: порой возникает ощущение, что в фильме нет главного героя, исполнители образуют единое симфоническое целое, но без солиста, поэтому только тогда, когда драматический конфликт конденсируется в отношениях трех персонажей, картина наконец-то обретает стилистическую завершенность. Возможно, структурная неоднородность «Великолепных Эмберсонов» была вызвана вмешательством продюсеров, потребовавших от Уэллса перемонтировать материал, нарушив его изначальный замысел – рассказать историю как расследование в духе «Гражданина Кейна». Режиссер пытается развернуть повествование сквозь меняющиеся приметы времени, однако, не ставит перед собой висконтиевских задач по реконструкции эпохи, его интересует витальное обаяние утраченного прошлого.
Персонажи этого фильма лишены ницшеанского очарования, присущего другим героям Уэллса, однако, они смотрятся реликтами ушедшей жизни, воскрешенные кинематографом. Джозеф Коттен исполняет роль Юджина в ничем не примечательной манере голливудского красавца также, как и в «Тени сомнения» Хичкока, схожим образом работают и другие исполнители, порой излишне аффектированно передающие психологические переживания героев. Однако, за счет монтажа и мастерского использования светотени их достаточно заурядная игра приобретает по необходимости то комическое, то трагическое звучание, блеклые персонажи приобретают объем и выразительность.
«Великолепные Эмберсоны» – это ко всему прочему еще и экранизация, пытающаяся передать эпическое дыхание в длинной и витиеватой истории одной семьи, однако, это удается ей не в полной мере именно из-за общей структурной неустойчивости и смены темпа в середине. Учитывая свойственную Уэллсу плотность в использовании кинематографических приемов, картину вряд ли можно признать проходной, по крайней мере в стилистическом плане, что же касается семантики, то здесь режиссер и вправду стал заложником достаточно скупого материала, не дающего развернуться повествованию о человеческих страстях. Фильм важен, прежде всего, как этап в совершенствовании Уэллсом своего стиля, барочного, непредсказуемого и богатого открытиями.
«Чужестранец» – фильм, о котором Уэллс не любил вспоминать, действительно стал стилистическим и концептуальным компромиссом с голливудской системой. О режиссерской манере напоминают лишь первые десять минут, содержащие в концентрированном виде все компоненты его авторского почерка (экспрессионистское освещение, создающее зловещую атмосферу, нижние ракурсы съемки и т.д.). Эта первая сцена может дать фору многим нуарам той поры по увлекательности и технической изощренности, в том числе и в монтажном решении, виртуозно выделяя одни детали, символически противопоставляя другие и выявляя значимость третьих (например, курительной трубки, сразу вызывающей аналогию со стаканом молока в хичкоковском «Подозрении»).
В остальном картина наследует драматургические клише психологических драм той поры (от «Газового света» до «Ребекки» и «Тени сомнения»), выводя на первый план конфликт наивной жены и двуличного мужа, скрывающего под маской благопристойности преступную натуру. Уэллс-актер придает своему герою ницшеанское отрицательное обаяние, пытаясь реализовать свои богатые исполнительские возможности в рамках довольно заурядной роли, всеми силами, порой перебарщивая с мимикой и взглядом (иногда комичным в своей устрашающей выразительности), делая образ если и не многогранным, то, по крайней мере, не таким однозначным, как в сценарии, который впервые писал не сам Уэллс. Остальные исполнители выглядят порой заурядно (как Э. Д. Робинсон на протяжении многих лет создающего амплуа благовоспитанного буржуа в нуарах 40-х, Фрица Ланга, например), а порой и откровенно плохо, в духе третьесортного голливудского актерствования (как Л. Янг в роли жены главного героя).
Один Уэллс своими усилиями, к сожалению, не может вытянуть фильм с уровня среднестатистического детектива, в меру политического, в меру патриотически патетического, в меру остросюжетного. Драматургические ходы предсказуемы, нагнетание саспенса следует в точности хичкоковским приемам, выведение злодея на чистую воду сопровождается сильным нравственным пафосом. Несмотря на стройность композиции и отсутствие ошибок в режиссуре, трудно отделаться от мысли, что Уэллса сильно тяготил сценарий, практически не предоставляющий возможностей для самореализации постановщика. История нацистского преступника, скрывающегося от правосудия, стала впоследствии столь часто используемым мотивом в голливудском кино, что вряд ли способна заинтересовать сейчас.
Несмотря на то, что «Чужестранец» сильно устарел и в плане содержания, и стилистически, и представляет собой передышку в режиссерской карьере Уэллса, он по-прежнему интересен актерскими стараниями Уэллса-актера, которые могут служить наглядным примером борьбы большого таланта с одномерным и серым материалом.
«Мистер Аркадин» – сложная, намерено нелогичная, парадоксальная, почти кафкианская история стала для Уэллса своего рода подготовкой к экранизации «Процесса». Отрицающее все законы здравого смысла повествование выполняет функцию фона для все более приобретающего барочные черты режиссерского стиля. В центре картины, как и всегда у Уэллса, – фигура ницшеанского сверхчеловека, стоящего вне морали, на этот раз она окутана завесой таинственности, приподнять которую – задача детектива-любителя. Режиссер, видимо, уже на уровне сценария прописывает парадоксальность буквально каждого сюжетного хода: выбор Аркадиным на роль сыщика первого попавшегося неудачника, неясность мотивов, которыми он руководствовался, затевая расследование, многочисленные эпизоды с участием персонажей, возникающих из ниоткуда и исчезающих в никуда и т.д.
Когда такое нагромождение нелепостей приобретает масштабы тотального абсурда, зритель начинает различать в интонации фильма странную иронию в духе Беккета и Ионеско, своеобразный смех во тьме, становящийся особенно ощутимой в сцене с гусиной печенкой. Понимание, что эта ирония концептуально значима, приходит после того, когда неприкрытая заурядность всех персонажей, помимо Аркадина, начинает раздражать, и именно тогда видишь, что все они – марионетки в руках искусного демиурга-фальсификатора, то ли Аркадина, то ли самого Уэллса, упивающегося своим талантом манипулятора, подтрунивая над реакциями зрителей.
Шутка гения, ироничный взгляд на свое ремесло фокусника-иллюзиониста, повелителя иллюзий, именно так следует понимать замысел «Мистера Аркадина», лишь маскирующегося под нуар, внешне копируя его формальные черты, в глубине являясь комедией человеческого существования, смешного в своем абсурдном стремлении найти истину. Именно невозможность найти первооснову в барочном лабиринте зеркал, взаимозаменяемость отражения и отражаемого, система двойников, ставящая под сомнение целостность личности, пронизывает творчество Уэллса в целом, делая его одним из пророков постмодерна.
Сама фрагментарность драматургической конструкции, прерывистость в развертывании нарратива диктует применение рваного монтажа, превращающего фильм в калейдоскоп коротких планов, еще более усложняя восприятие зрителем всех его хитроумных перипетий. Уэллс, помимо всего прочего, иронизирует над сюжетной невнятностью нуаров, ставшей их отличительной чертой и восхваляемой поклонниками наряду с другими свойствами нуаров. Некоторые эпизоды (например, в лавке старьевщика или у дрессировщика блох) включены в ленту с одной целью – продемонстрировать специфический юмор режиссера и полеты его фантазии.
«Мистер Аркадин» показывает Уэллса стихийным постмодернистом именно на уровне мировоззрения, а не просто использования стилистического инструментария. И то, что за всем этим нагромождением мотивов, образов, барочной символики скрывается лишь улыбка Чеширского кота, самоирония, пустой центр (не даром, именно пустой самолет становится «образом-отмычкой» к замыслу фильма) еще раз доказывает бесспорность этого факта.
«Печать зла» – еще одна наряду с «Мистером Аркадиным» попытка проверки на прочность жанровых границ нуара. В основу сценария лег роман, что позволило Уэллсу добиться не столько драматургической стройности, сколько нарративной внятности, лишенной налета кафкианского абсурда как в «Мистере Аркадине». Славу фильму по праву заслужила операторская работа Рассела Мети, позволившая создать сложнейшие мизансцены, снятые планами-эпизодами непостижимой длительности. Даже сейчас вызывает недоумение, как в 1957 году стали технически возможными эти сцены. Камера делает экранное пространство невероятно эластичным, то расширяя, то сужая его в зависимости от эстетических задач.
Город предстает гигантским организмом в стадии разложения со множеством отверстий, черных дыр, чреватых опасностью, из которых как насекомые или трупные черви выползают преступники. Используя ставшие привычными для зрителей его фильмов нижние ракурсы, мастерски распределенную светотень, короткофокусную оптику и широкоугольный объектив, Уэллс доводит до совершенства свои формальные приемы в черно-белом изображении. Содержательная сторона, в отличие от его экранизаций Шекспира, Кафки и «Гражданина Кейна», пронизанных многоуровневым символизмом, в «Печати зла» явно страдает, хотя режиссер и пытается придать истории архетипический смысл, создать портрет коррумпированного мира. Как и в других картинах Уэллса на первый план выходит фигура злодея в его собственном исполнении, безоговорочно оттесняя положительного правдолюбца.
В этот раз таким персонажем становится Куинлэн, колоритный образ «плохого полицейского», тучный, необъятный, чья фигура и физически, и семантически выдавливает из кадра всех остальных героев. Кинлэн перетягивает внимание на себя во всех сценах, в которых появляется, однако, Уэллс добавляет ему комического обаяния и даже лиризма в эпизодах с цыганкой (яркая роль М. Дитрих). Уэллс и Дитрих невероятно фотогеничны, один их взгляд, исполненный экспрессии и выразительности, способен гипнотизировать зрителя. Оператор снимает их раздельно, предусмотрительно решив, что двум звездам будет тесно в кадре. Хестон и Ли напротив смотрятся на удивление блекло в своей декларативной, никак драматургически не обоснованной стопроцентной положительности тем более на фоне тотальной коррумпированности всех остальных.
Если оценивать «Печать зла» скрупулезно, без скидок на его мировое признание, то бросается в глаза несоизмеримость формального новаторства, актуального и поныне и узкого содержания локальной истории, которую режиссер тщетно пытается расширить до размеров социальной притчи. В то же время в отличие от большинства безнадежно устаревших нуаров «Печать зла» даже содержательно смотрится свежее и оригинальнее их.
«Леди из Шанхая» сейчас выглядит несколько наивно, банально, практически без свойственных Уэллсу формальных приемов (за исключением барочного финала), если бы не легкая ирония комментирующего действие рассказчика. Порой незаметный несерьезный тон в истории влюбленности и предательства превращает ее в сказку. Режиссер концентрирует свой фильм на фигуре таинственной незнакомки в исполнении Риты Хейворт, которая за счет крупных планов, превращающих ее лицо в пейзаж, приобретает архетипический масштаб. Уэллс стремится деконструировать образ голливудской звезды как таковой, воплощенной мужской мечты, представив ее как манящую, но опасную фигуру, готовую в любой момент предать и воспользоваться доверчивостью поклонника.
Режиссер, сам будучи влюбленным в Хейворт мужем, строит многие сцены не иначе как на восхищении ее красотой и грацией, вследствие чего остальные эпизоды кажутся второстепенными и проходными, хотя комически эффектной выглядит сцена в суде, особенно шизофренический допрос адвокатом самого себя. Повествование развивается в сбалансированном ритме, без сбоев и остановок, монтаж незаметен, максимально подстроен под голливудские стандарты, как и операторская работа. Фильм кажется нехарактерным для Уэллса, лишенным технической изощренности и творческого вдохновения других его работ. Конечно, это не откровенно средний «Чужестранец», но и не оглушающие зрителя стилистическим богатством «Отелло» или «Фальстаф».
Уэллс-актер создает необычный для себя образ простака намеренно сухо, узко, без свойственного его персонажам отрицательного обаяния, однако, его веселый нрав то и дело проглядывает в мимических нюансах. Ироническая, сказочная интонация в применении к нуару, конечно, была свежим нововведением для кино тех лет, но сегодня фильм потерял большую часть своей привлекательности и смотрится пусть и не лишенной мастерства, но в целом, банальной картиной. Однако, общее негативное впечатление пусть и не в полной мере нейтрализует финал, выполненный в визуальной манере барочного лабиринта: коридор зеркал, серийность образов, наложение изображений за счет использования комбинированной съемки призваны выразить кафкианскую дезориентацию утратившей идентичность личности вполне в духе Уэллса.
К сожалению, этот эпизод не долог и никак драматургически не оправдан, но лишь он оставляет сильное впечатление, замыкая серое и невыразительное повествование. За исключением финала, «Леди из Шанхая» не содержит в себе ни стилистических прорывов, ни семантической глубины, оставаясь в памяти зрителя как проходной, среднестатистический фильм 40-х годов.
«Макбет» Уэллса – мрачная в своей безысходности картина. Экранизация самой пессимистической пьесы Шекспира здесь приобрела масштаб космической катастрофы в почти первобытном мире, где человеческие страсти и природные стихии слиты воедино. Режиссер вовсю использует возможности экспрессионистского освещения: тени, силуэты заполняют кадр, приобретая гигантские размеры, фирменные уэллсовские нижние ракурсы съемки придают фигурам титаническое величие. В картине на первый план выведена демонизация персонажей, их почти инфернальная одержимость злом, не оставляющая места человеческой свободе. Монологи и диалоги Шекспира, как чугунные плиты, давят зрителя своей жестокостью и садизмом. Беспросветность, рождаемая словами и действиями, усугубляется безумием, в которое неуклонно погружаются Макбет и его жена.
Уэллс и Ж. Нолан создают потрясающий в своей убедительности дуэт сумасшедших, потерявших рассудок в лабиринте злодеяний. Основной концептуальный посыл шекспировской трагедии – то, что осознанный выбор зла всегда приводит к безумию, уловлен режиссером и актерами удивительно точно. И все же главной задачей фильма является создание атмосферы усугубляющегося кошмара, засасывающего всех участников действия, из-за чего события слипаются в один ком, а темп становится вязким и тягучим. Уэллс лишает фильм театральности за счет чередования крупных и общих планов, активно используя глубинную мизансцену.
Крупные планы превращают лица в пейзаж, галлюциногенный и гипнотический, как в лентах Карла Теодора Дрейера и Ингмара Бергмана. Актерская игра сбалансирована, даже в сценах стремительно развивающегося безумия никогда не переходит грань эмоциональной убедительности, что могло бы превратить трагедию в фарс. Снимая пятую свою картину и первую из трех экранизаций Шекспира (затем последуют «Отелло» и «Фальстаф»), Уэллс стремится во всем следовать стилю, сформированному еще в своем дебюте «Гражданин Кейн», для которого характерны: создание средствами киноязыка эффекта монументальности персонажей и пристальное внимание к человеческим страстям, экзистенциальным безднам. Как экранизация «Макбет» представляет собой новаторский подход во всем, что касается формы и структуры экранного текста (особенно для 1948 года), не жертвуя при этом целостностью первоисточника, а обогащая его важными художественными достижениями.
Следующей адаптацией Шекспира для экрана в карьере Уэллса стал «Отелло» – почти идеальная экранизация драматического материала. Режиссер дает волю своему творческому вдохновению, как в никаком другом своем фильме (на тот момент) за исключением, может быть, «Гражданина Кейна» раскрепощает эстетические возможности своего стиля. Нижние ракурсы, съемка широкоугольным объективом и короткофокусной оптикой, динамичный монтаж символически насыщенных планов, которые практически невозможно рассмотреть и запомнить из-за их короткой продолжительности, создают стремительно развивающееся, невероятно экспрессивное повествование, темп которого все ускоряется на пути к кульминации – мощному завершающему ансамблю смертей.
Арки, анфилады, величественные своды венецианской архитектуры смотрятся не только ярким фоном, но и полноценным участником повествования. Декорации создают своеобразный лабиринт, в котором блуждают герои, зазеркалье из собственных страстей, которое становится непроходимым для дезориентированного от ревности Отелло. Уэллс великолепен в заглавной роли человека, поведение которого резко меняется, попав в паутину злодеяний Яго. В отличие от Макбета, осознано выбравшего путь зла и сходящего с ума по собственной вине, Отелло в исполнении Уэллса выглядит невинной жертвой, не подозревающей о ресурсах жестокости, таящихся в ней до поры до времени.
В кульминационной сцене доминирующим становится противопоставление крупных планов озверевшей, погруженной во тьму физиономии Отелло и красивого, невинного, сияющего своей добродетельностью лица Дездемоны. Выбор Сюзанны Клутье на роль Дездемоны чрезвычайно удачен, у зрителя не возникает ни малейшего сомнения в невиновности ее героини, буквально лучащейся чистотой. Не менее колоритным получился и Яго в исполнении Майкла МакЛиаммойра, чьи змеиные интонации с ярко выраженным британским акцентом контрастируют с сочным благородным баритоном Уэллса.
Режиссер активно использует глубинную мизансцену, пространство кадра, выстраивая символические соответствия между положением персонажей и их репликами (порой выше или дальше расположен тот, кто доминирует в разговоре), намерено подчеркивается искусственность экспрессионистского освещения, наполняющее кадр тенями и придающее фигурам объемность, что становится уже постоянным стилистическим приемом картин Уэллса. В целом, лента не только мастерски воплощает шекспировский текст на экране, не нарушая его концептуальной целостности, но визуально выражает его скрытые символические значения, являя собой пример комплексной интерпретации, структурного анализа пьесы, в котором все (композиция и монтаж, построение кадра и освещение, операторские приемы, актерская игра и музыкальное сопровождение) подчинено одной цели – дешифровать и наглядно представить глубинный семантический пласт произведения.
«Отелло» Уэллса представляет собой программное отрицание иллюстративного подхода к материалу, его внешнего, поверхностного прочтения, учитывающего лишь событийный слой, в противоположность ему картина предлагает многогранный интертекстуальный диалог с первоисточником, учитывающий если и не все его уровни, то, по крайней мере, стремящегося к наиболее адекватному прочтению. Экранизация становится удачной, если ей занимается постановщик интеллектуально развитый и духовно глубокий, хотя бы частично соразмерный по таланту с автором литературного произведения, а степень творческой гениальности Уэллса имеет, без сомнения, шекспировский размах.
«Полуночные колокола» (или «Фальстаф») – третья и последняя экранизация Шекспира, осуществленная Уэллсом, на этот раз материалом послужили четыре пьесы: «Генрих IV», «Генрих V», «Ричард II» и «Виндзорские насмешницы». Режиссер снимает, наверное, свой самый веселый фильм, полный шуток и невероятной витальной энергии. Картина сразу же оглушает зрителя многообразием персонажей, непрерывно перемещающихся при движущейся камере (густонаселенность, визуальная плотность изображения этой ленты, видимо, сильно повлияла на Алексея Германа в его последней работе «Трудно быть Богом»). Режиссер чередует острый монтаж сцен, снятых короткими планами, как калейдоскоп проносящихся перед глазами зрителя, и длительные планы-эпизоды, снятые почти без склеек, единым куском.
Скоростной темп произносимых диалогов и монологов становится молниеносным при описании битвы. В этой кульминационной сцене Уэллс делает свое мастерство практически недосягаемым: резко смонтированные почти в клиповой манере короткие планы, как вспышки, передают состояние агонизирующего сознания. Война предстает лишенной героики и патетики кровавой бойней, комический эффект этому отвратительному зрелищу придает мечущийся в страхе по полю Фальстаф. Именно ради этого героя режиссер и затеял свой фильм: будучи человеком веселого нрава, большим выдумщиком и жизнелюбом, Уэллс, снимая трагедии и драмы, мечтал воплотить на экране образ, одновременно исполненный жизненной конкретики и символически обобщенный. Фальстаф – сама жизнь, неистощимая на выдумку, добродушный весельчак, больше всего ценящий многоцветие существования.
Картина построена на противопоставлении величественных сцен с участием короля (в исполнении Джона Гилгуда) и его свиты в роскошном готическом замке и комически сниженных, раблезианских эпизодов в доме Фальстафа, где до поры до времени находит радость общения молодой принц Хэл. Чудачества и смешные ситуации, в которые попадают Фальстаф и его друзья, овеяны ностальгией по утраченной гармонии, которую озвучивает постаревшие герои в начале и финале, закольцовывающие композицию. Уэллс играет в «Полуночных колоколах», без сомнения, свою лучшую роль с сочным, искрящимся лукавством взглядом, с подвижной мимикой, обаятельной неповоротливостью чрезмерно тучного персонажа, интонационно очаровывающим баритоном (особенно милыми кажутся его слова о том, что ему еще рано умирать, произнесенные накануне битвы).
Тем не менее, во всем подчеркивая свою любовь к персонажу, не скрывая удовольствия при исполнении роли, захватывая все предоставленное пространство и перетягивая зрительское внимание на себя, Уэллс как актер демонстрирует чрезвычайную деликатность в работе с коллегами, позволяя в полной мере проявиться их таланту, особенно это касается Кита Бэкстера в роли принца, с которым они образуют запоминающийся дуэт. В эпизодах с участием Гилгуда Уэллс практически не появляется, предусмотрительно решив, что двум титанам в кадре будет тесно. Действительно, Гилгуд исполняет полноценную роль из классического репертуара, исполненную с по-британски оточенной выразительностью в психологическом рисунке роли.
Как и прежде, режиссер создает картину столь богатую художественными достоинствами, щедро рассыпанными по всему пространству фильма, делает изображение столь семантически и энергетически насыщенным, что это вызывает аналогии с творческими манерами Бунюэля и Феллини. В каждой своей новой ленте, в деталях сохраняя эстетические особенности своего стиля (что касается монтажа, операторской работы и актерского существования в кадре), Уэллс как будто пересоздает его заново, добавляя все новые и новые компоненты (в данном случае подвижную мизансцену, густонаселенную и витально мощную).
Как экранизация, «Полуночные колокола» – еще один шаг вперед по сравнению с «Макбетом» и «Отелло», в направлении отрицания иллюстративности и более свободного обращения с материалом: умело тасуя эпизоды из четырех пьес Шекспира, режиссер будто без труда организует их в целостное двухчасовое повествование, которое буквально распирает от избытка событий, эмоций и эстетических новаций. Наконец, решающим достоинством фильма в деле покорения зрителя становится почти незаметная смена тональности с комической на трагическую в финале: Уэллс прекрасен в своей безмолвной, почти мгновенной мимической трансформации, лишающей героя «крыльев». Смотря картину, зритель не устает поражаться неистощимой на творческие открытия и озарения режиссерской фантазии, которая при символической многослойности содержания рождает чудо полноценного и законченного шедевра.
«Бессмертная история» – предпоследний и первый цветной фильм Уэллса. Поклонник парадоксов и головоломок, режиссер экранизировал рассказ К. Бликсен для телевидения в чрезвычайно емком часовом формате. Некоторая зашифрованность и в то же время открытая аллегоричность текста превращается в его руках в притчу о творчестве в целом и кинематографе в частности. Уэллса всегда привлекали персонажи сверхчелоческого масштаба, титаны, люди-гиганты, своими талантами или преступлениями возвышающиеся над средним уровнем существования. В данном случае перед нами – история богача, дельца, возомнившего себя демиургом, способным создавать и разрушать чужие судьбы.
Элегическая, дисгармоническая музыка Эрика Сати сразу задает истории настроение несбывшегося, неосуществленного желания. Уэллс наполняет свой фильм планами такой красоты и выразительности, что если бы не его скромность, безжалостно их укорачивающая, то ими можно было бы любоваться без конца, сделав из них ни одну ленту. Но как говорил Ф. Трюффо: «Они настолько короткие, что зритель даже не успевает их рассмотреть». Уэллс как режиссер и творческий гений невероятно щедр на художественные находки, не перестающие поражать и восхищать зрителя. В данной ленте, это, прежде всего, эпизод в постели, где черты лица Жанна Моро сняты так эротически выразительно, что гипнотизируют зрительское воображение.
Изысканные интерьеры, не известно как созданные в рамках скромного телевизионного бюджета, вызывают в памяти роскошные декорации Висконти, но если у последнего они намекают на распад и увядание исторической эпохи, то у Уэллса они подчеркивают призрачность, искусственность повествования, вызванного к жизни волей героя. Уэллс сам исполняет роль сумасбродного демиурга, мечтающего насладиться властью перед своей смертью, и делает это, комически заостряя его поведение, интонации, пластику. Персонажи возникают из ниоткуда и исчезают в никуда, предельно обнажая замысел ленты, который и становится ее структурой. Режиссер хочет как можно лаконичнее соединить форму и содержание, сделать их единым целым. Перед нами – фильм о фильме, непрестанно анализирующий собственную структуру, его элементы вступают во взаимодействие лишь с одной целью – обнажить механизм собственного функционирования.
Жанна Моро воплощает на экране миф о самой себе, архетип не больше, не меньше, ожившую мужскую грезу, манящую и доступную лишь в условном мире кино. Снимая обнаженную натуру или встречу любовников через вуаль, Уэллс простыми средствами достигает таких высот поэзии, что многое, снятое после, кажется излишне нарочитым. В этой картине нет его фирменных нижних ракурсов, широкоугольного объектива и короткофокусной оптики, все вполне умещается в рамки телефильма, если бы не монтаж, заставляющий короткие планы, словно вспышки памяти и воображения, выстраиваться в единую линию повествования.
Несмотря на острый монтаж, темп фильма нарочито замедлен, синхронизирован с музыкой Сати, и это еще один из эстетических парадоксов ленты. Режиссер заставляет порой взаимоисключающие элементы работать слаженно и гармонически, а это и есть признак творческой гениальности, богатой контрастами и не чурающейся крайностей. «Бессмертная история», несмотря на свой скромный формат, не является не эскизом, не заготовкой, а полноценным художественным высказыванием на тему творчества, прекрасной в своем лаконизме экранизацией, способной емко и в то же время эстетически многогранно выразить суть небольшого рассказа.
«Ф как фальшивка» – последняя и достаточно провокативная картина Уэллса. В ней он отдает дань своей тяге к фальсификации и причудливым поворотам фантазии, направлявшим его жизнь и невероятно усложнившим ее в условиях Голливуда. Все содержание картины за исключением эпизодов, связанных непосредственно с карьерой Уэллса, представляет собой искусно сфабрикованную псевдодокументалистику, в те годы находившуюся как жанр в зачаточном состоянии. Как ни в какой другой ленте режиссер использует не просто ускоренный темп, но почти годаровскую манеру обращения с монтажными ножницами: планы сменяют друг друга со все возрастающей скоростью, при этом артикулировано, без логических ошибок, рассказывая лабиринтообразную историю двух мошенников, подделывающих картины и документы просто по причине своей неистощимой фантазии, а не ради денег, которые и так приходят сами.
Уэллс во второй своей цветной картине снова, как и в «Бессмертной истории», ставит вопрос о границах творческого воображения, о задачах искусства и его симулятивной мощи, являющееся причиной гипнотизма для миллионов зрителей и читателей. Вплетая в вымышленную историю реальных персонажей (Г. Хьюза, П. Пикассо), режиссер демонстрирует, насколько безграничными могут быть суггестивные возможности искусства, способного убедить кого-угодно и в чем-угодно. Сам появляясь в облике повествователя-фокусника, загадочно облаченного в черное, Уэллс приоткрывает для зрителя свою натуру сказочника, человека, приговоренного своим талантом к неутомимому рассказыванию историй, сложных, многослойных, символически многогранных, раскрывающих человеку некую глубинную правду о нем самом.
В своих последних двух лентах режиссер подводит некий итог карьере в кино: загадочно-трагический в «Бессмертной истории» и фарсово-комический в «Ф как фальшивке», второй после «Фальстафа» попытке жизнерадостного повествования – двустороннее концептуальное высказывание о радости погружения в мир искусства, который всегда больше самой жизни, ибо представляет ее в концентрированном виде, очищая от повседневной, будничной шелухи. Художником, по версии Уэллса, является всякий, кто предпочитает вымысел реальности и делает его основанием своего мастерства. «Ф как фальшивку» можно воспринимать и как шутку гения и как признание в любви всем скромным мошенникам, мастерам своего дела, прозябающим в тени известных творцов.
Сам будучи режиссером-маргиналом в условиях негостеприимного Голливуда, Уэллс, возможно, ощущал себя неудачником, оказавшимся неспособным протолкнуть и отстоять большинство своих замыслов (а их, как свидетельствуют интервью, было очень много), но даже его законченные полнометражные картины с течением времени воспринимаются как настоящие сокровищницы, содержащие в себе большинство будущих технических достижений в области киноязыка. Масштаб творческой гениальности Уэллса был огромен и, возможно, не раскрылся даже наполовину, но тот итог, который мы имеем, говорит о том, что и нескольким поколениям зрителей не исчерпать глубины снятых им фильмов.

